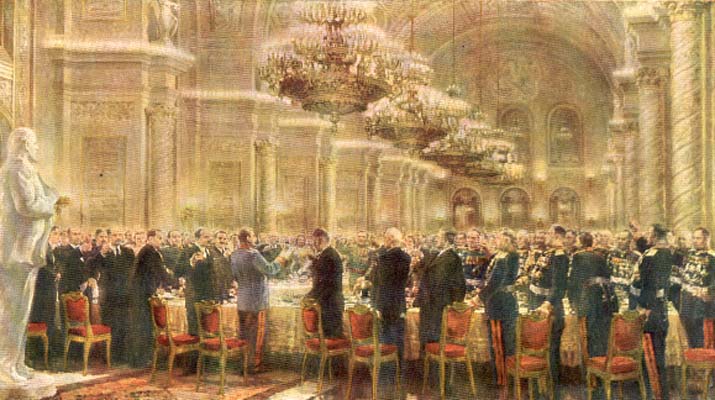
Не добивался я успехов,
хоть был одним из мастеров —
не поэтического цеха,
а разных заводских цехов.
И сочинял, когда хотелось,
и не считал, что я — поэт...
А точность слов и мыслей зрелость
пришли ко мне на склоне лет...
2003 год
Лёва! Где ты? Ну, где тебя можно
хоть письмом, хоть стихами найти?
Вечный путник, хозяин дорожный,
ты, наверное, снова в пути.
Дом — и то для тебя — остановка:
"Мама, часиков в пять разбуди..."
Сколько там на спидометре, Лёвка?
И ещё предстоит впереди?..
Разве есть на дорогах Союза
незнакомые Лёвке места?
И должно быть, не сыщется груза,
чтоб не тёрся об эти борта.
Где, когда, у какого порога
мы увидимся? Вспомнить готов:
"Есть по Чуйскому тракту дорога,
много ездит по ней шоферов..."
Путь далёк...
Мы с дороги хорошей
не свернём, не застрянем в грязи.
Кто спешит — налегке или с ношей,
пусть попросит: дружок, подвези!
1945 год
"Да, мама!.. Да, я говорю с проходной...
Что может случиться?.. Нет...
Что делать — опять остаюсь на ночной...
Ну, всё... Загляну в буфет..."
Напрасно о сыне волнуется мама —
пора обо мне беспокоиться меньше.
Две смены подряд — ну какая тут драма?
Вот я занемог бы — остался бы сменщик.
Я смену сумею как следует сдать,
приеду домой спозаранок.
А дома: варенье, газеты, кровать,
под окнами шелест каштанов!
Чуть высплюсь — компания спор завела:
в чём, в главном поэзии суть...
И как-то с любимой в четыре весла
на остров заветный рвануть...
Но кажется маме, что я устаю.
Да нет! Я живу по весне!
И разве кому-то в каком-то раю
живётся прекрасней, чем мне?
Полпятого... Спать... Страшно хочется спать…
Как смену до дня дотянуть
ночную...
Эх, если б когда помирать —
вот так захотелось уснуть...
Но нет же: тогда — это всё чепуха,
а жить бы, а жить как в былом.
И память промчит через душу: цеха,
где ночью боролся со сном.
Я выйду из цеха — к рождению дня
пока по делам не окликнут меня.
Как в сказке — на сколько там будущих лет
пускай осеняет осенний рассвет.
Последняя звёздочка словно сгорит,
блестят, но тускнеют вдали фонари.
И тихие сосны иголкой любой
вмерзают в рассветный простор голубой...
Привык я, что ли, к той гармошке,
всегда зовущей "до своих" —
туда, где сходятся дорожки
из общежитий заводских.
Придёшь, и кто-нибудь знакомый:
здорово, Гришка! Подходи!
И сердце сильно и весомо
стучит, гремит, поёт в груди.
Пей! Если будешь слишком пьяным —
и сам не знаешь отчего —
хвати-ка о землю стаканом,
чтоб доказать, и ты — ого!..
Не знаю — хорошо ли, плохо,
и буду пьян или не пьян, —
спешу туда, где громкий хохот
да оземь брошенный стакан.
Где нет счастливых, нет несчастных,
но все — живые на земле,
которым всё на свете ясно,
как хлеб и водка на столе.
Цех. Ты, как я, забился в угол.
Передохни, остановись.
Поговорить бы нам друг с другом
хоть про твою, про нашу жизнь.
Ты, как и я, без лишних споров
попал сюда, и служишь, брат,
середнячок среди моторов —
каких-то двадцать киловатт.
Так — не в опале, не в почёте,
хоть заменил штук тридцать кляч,
ты не сгораешь на работе,
хотя — дотронешься — горяч.
Начальство вроде бы считает,
что так крутиться — тоже честь, —
пока энергии хватает,
и, чтоб не ржавел, смазка есть.
Наверное, и ты согласен,
что нужен твой всегдашний труд...
И только жизни срок неясен:
ни лет, ни суток, ни минут
покамест всё... И надо всё же
жить напряженно,
жить всерьёз,
как Прометей, что искру Божью
тебе в сердечник перенёс.
Я еду в город после смены.
И как-то грустно каждый раз,
когда степную ширь от глаз
скрывают городские стены...
Осенний день, плывя с востока,
находит жемчуг и в грязи,
и ранний город издалёка
куда милее чем вблизи.
Старик в телеге — из колхоза
вгляделся в новые места.
И помидор, слетевший с воза,
раздавлен шиной у моста.
1953 год
Дата написания свидетельствует о реалиях того времени. Завод, где я посменно работал — на левом берегу Днепра, почти среди голого поля и сосновых рощ. И мост Патона через Днепр только строится...
Я жил тогда в Москве, но что тогда я ведал?..
Конец войне. А здесь, невдалеке
раскалывался вечный мир урана,
и капала тяжелая вода.
Кремлёвских стен хозяин невесёлый
обдумывал, как свет завоевать.
Спевались скрипки, хмурились послы.
В набитых людом, сумрачных домах
угрюмое рождалось поколенье.
Расстрелянных иные жены ждали,
творил не уставая Пастернак,
фронтовики с надеждой возвращались,
которым повезло — остались живы.
Я близко был, но что тогда я ведал?..
* * *
Мне "тыкают". Не руководство,
а всякий встречный — мой народ.
И не даёт мне превосходства
рожденья отдаленный год.
Ни проседь, ни образованье,
ни все печатные труды.
Ну, кто я? "Ты" — моё прозванье
в превратностях земной страды.
Ах, как я это понял славно —
любому-каждому ровня...
Народ один стоит заглавно,
и всех ровняет, как меня.
1966 г
.
Звёзды тихо тронуты рассветом
можно верить и не верить сну...
Девушка, бредущая с букетом
вянущим — уходит в тишину.
Рань. Сирень. Ни одного прохожего.
Чуть светлее где-то позади.
Солнце! Ничего ещё не прожито.
Если день последний — погоди...
Семь. Светло. Срываясь от волненья
загудел с причала пароход:
лёд сошел, и скоро отправленье!..
— В добрый ча-ас... — откликнулся завод.
Улица упёрлась прямо в солнце,
и сейчас на ней одной светло, —
вечер вставил в каждое оконце
праздничное красное стекло.
А чубатый крепкий паренёк
с проходной пешком домой — нарочно:
разбивать на лужицах ледок,
чувствовать — и я весне помощник!
Над синим лесом туча синяя,
колечки тают на пруду...
Как неисхоженной пустынею
я миром вымытым иду.
Сосновой рощи запах гуще,
дурман от скошенной травы;
и вновь комарик вездесущий
жужжит у самой головы.
А в поле тянутся за ветром
ручонки спелого овса —
туда, где неба лентой светлой
уже увенчаны леса.
Ушло село... И звёзды над селом
оторвались, и чуть дрожат у лодки,
перебирая листья словно чётки.
И тронуть реку боязно веслом.
И вспоминаешь — кто ты, как ты, где ты —
пришелец из забытой стороны...
И — страх берёт. И ждёшь: из глубины
всплывут русалки, в лунный свет одеты...
Сосняк угорелый и душный стоит.
Едва добираясь до маленькой речки,
чуть выбилась юбка цветастая гречки,
и стоптана сотнями ног и копыт.
Поилица-речка — откуда в ней сила? —
С бездонного неба ни капли дождя.
А лодку в прибрежных кустах проводя,
услышишь ты лепет младенчески милый.
Из тайных расселин в зелёную глину
стыдливой тропой выбегают ключи,
и с плеском весёлым в речные глубины
ныряют, плетя голубые лучи...
Жара! Пауком раскалённым повисло
пузатое солнце над рыжей землей.
Но — полные вёдра прогнут коромысло,
и бронза застынет в воде ключевой...
Укрыт небосвод облаками,
лишь кромка востока чиста.
И кажется — можно руками
тяжелое небо достать.
Какой изумительный запах
акации перед грозой!
За первыми искрами капель
помчался мальчишка босой.
И вмиг разрядилась тревога,
сверкающий ожил асфальт,
и сделалась небом дорога,
с грозой уходящая вдаль.
Июнь. Над ширью, над Днепром
вдвоём. Полмира под ногами.
И всё слышнее в птичьем гаме
далёкий, гулкий, гневный гром.
Вдали — борьба, недолгая война
свинцовых туч с величественной синью.
А здесь — на солнце смотрит бузина
и дышит зной томительной полынью.
Берёзка спит. От налетевших пчёл
акация никак не отобьется,
и сонный грач напиться подошёл
из ручейка у старого колодца...
А к нам наверх урча ползёт гроза,
И свет с небес уже пошёл на убыль.
И молния уже слепит глаза,
и ловят капли ссохшиеся губы...
Всё мокро. Трамвайные дуги искрят.
С земли поднимается пар.
Каштан, отряхая промокший наряд,
в зеркальный глядит тротуар.
Брожу я у тёмной днепровской воды,
автобус ушёл броварской,
и шины узорные тянут следы
до той проходной заводской.
Прошла лишь неделя, как мне довелось
расстаться, должно быть, навек
с тем цехом, где был — не хозяин, не гость,
а попросту — свой человек.
И мог ли я думать неделю назад,
что в душу врезается это,
как девушки милой задумчивый взгляд,
как отзвук любви недопетой...
***
Когда с утра восток зажжется мглистый,
я любоваться осенью начну:
бродить в лесу, топтать сухие листья,
в печальную глядеть голубизну.
Как сладко льётся терпкий воздух в грудь…
Бежит девчушка в тихий сад за школой —
подпрыгнуть и с антоновки тяжелой
серебряные капельки стряхнуть.
Зовёт: а ну-ка, то, что выше — сбросьте!
На мягкой глине лёгких ножек след...
Ещё светло. Но зажигают свет,
как будто люди ждут кого-то в гости...
***
Разве наступишь на листья кленовые? —
слишком они золотые и новые,
солнцем из солнца осеннего сделаны
с клёна летят...
А ему нипочём:
в мае шумел — было молодо-зелено,
пожил, и к старости стал богачом.
Эй, облака над верхним ярусом
холмов и гор — давайте вниз!..
Прошиты солнечным стеклярусом
танцуют волны свой каприз.
И все замрут поодиночке
на тьмах шлифованных камней.
Бегущие вселенной строчки —
что говорят они о ней?
Кому понятен их рассказ
о звёздах, о глубинах сонных?
Но — от набегов обреченных
мы оторвать не в силах глаз.
Отпелись, отплясались, отыгрались —
окончено сегодня представленье.
Одна, шаля пробила на рояле:
до-ля, Ва-ля...
Затихло. В отдаленье
простывший ветер выбросил стекло.
А у подъезда — ни поклонниц, ни поклонников.
И только дождь стекает с подоконников,
оплакавши последнее тепло.
У, холодно в театре — тих и пуст,
и дрожь возьмёт застрявшего — покинут?
Расходятся служители искусств,
в дождливую вплетаясь паутину.
Спешат: по магазинам, по врачам,
к весёлым или сумрачным семейкам —
пускать на роздых душу по ночам...
А в парке листья лепятся к скамейкам.
***
И голод пройдёт, и тревога промчится,
и, волчьи глаза прожигая лучом,
подкралась весна, и, дразня как волчица,
дорогу на север открыла ключом.
Бежать — от бесплотного плеска воды
туда — где разбуженных самок следы.
Рассечь ледянистое тело реки,
зажмурясь, как в пропасть, нырнуть под флажки.
И брюхо пустое по топям таскать,
дремать, пробуждаться, и снова искать.
Обрушилась зимнего леса тюрьма,
и прелость подзвёздная сводит с ума.
И в сумерках каждый раздвоенный сук,
как бёдра волчицы поджар и упруг.
В заветную полночь дождаться, дорваться,
в закате желанья глаза потушить,
и — волчьим бессмертием впредь продолжаться
пока продолжает вселенная жить.
Пусть сердце колотится в серых волчатах:
расти им, и жрать, и кружить, и рожать...
_____ ? _____
А нам, ненасытным, в словах непочатых
любовь человечью дано продолжать?..
Она вот-вот расстанется с волнами,
мелькнёт в знакомом пёстром сарафане.
И поискав кого-либо глазами
в мои глаза, и, может, мимо глянет.
Ей всё равно — в меня ли, или мимо.
В ней всё по-детски: говор, слёзы, смех.
Ещё никем особо не любима...
Не потому ль так любящая всех?..
Друзья, извините, мы как-нибудь встретимся снова —
бегу...
И цветами, и смогом дорогой дышу.
Уже без пяти половина восьмого,
кого-то толкаю — простите, спешу!
Не вижу заманчивой свежей афиши,
последнего солнца и первых огней.
Ни Грига в окне, ни весёлого женского смеха — не слышу
я так тороплюсь на свидание — с ней!
А вдруг — вдруг не выйдет?..
Быть может... Должно быть... Конечно:
никак не является — сколько её не прошу.
И кажется мне — так оно продолжается вечно.
И всё-таки к ней и сейчас понапрасну спешу.
Ещё раз читаю твоё письмецо.
Спасибо за скорый ответ.
Но разве глаза твои, руки, лицо
я чувствую? Ты или нет
мне пишешь? Не знаю. За несколько дней
ты стала далёкой... Хочу
с тобой говорить, а не думать о ней.
Но в письмах я также молчу.
Молчу о тебе, и о том, что пока
не вызрело словом сердечным.
Пишу о работе, что так не легка,
о фильмах, о книгах, конечно.
Письмо — не соната, не стих, что в альбом,
а всё же — о том не молчит,
что — если прислушаться — в слове любом
бессонное сердце стучит.
И та же детская причёска,
растерянность обмерзлых губ,
глаза оливкового воска...
Молчу. Мой голос сух и груб.
И ты молчи. И жди начала.
Жди, ни о чём не говоря,
пока не снимется с причала
душа, срывая якоря.
Год почти что твои отстояли цветы
и померкли, как пьесы, что сходят со сцены,
нет — подстать часовым, что живыми не кинут посты,
если знают, что нет и не будет им смены.
Отстояли цветы. Ну, а ты — мне со мной изменяла,
когда я становился другим, не твоим...
И цветочная память неслышно увяла,
незаметно, как память, что делает время седым.
'І` etat c ` est moi " — "л'эта се муа" —
государство — это я.
Людовик XIV
Помнишь?..
Помню — салют величавой "Бретани",
и Французской республики знак на могучей трубе.
Я мечтал о далёком.
Я думал о Франсе, Париже, Монтане.
Я тебя не видал ещё. Я не знал о тебе.
Промелькнул лепесток тёмно-синего платья.
Помнишь первую встречу, фиалка моя?..
Незнакомы слова, неуместны объятья,
неожиданно вспомнил: "л'эта се муа".
Жаль, другого не знал.
А и знал бы — не стал бы расспрашивать —
как живётся у вас. Были руки в руках.
И в руках у нас множество нашего...
Никогда я не буду, наверно, в Париже,
и нескоро сольётся народов семья.
По волнам ты уходишь.
Какая-то грустная песня всё ближе.
Мы смеёмся прощаясь: "л'эта се муа!"
Не суждено ей прятаться в лукошке,
потом вариться в собственном соку,
и, напоследок, сидя в чайной ложке,
припоминать — что было на веку.
Она — дочурка поздняя у лета —
озноб, должно, хватает по утрам...
Не бойся, выглянь, ягодка! Ну, где ты? —
уж лучше мне, чем птицам и ветрам.
***
В моём букете роза отцвела...
Мне надоели — Вальки, Гальки, Ленки,
бесчувственные липкие тела
и разных глаз не разные оттенки.
Не утверждаю, что на свете нет
красивых, тонких, нежных и любимых, —
я растерял их на ступеньках лет,
как отчий дом теряют пилигримы.
И нынче — у рабочего стола
меня другие радости тревожат.
Я стал грубей и пасмурней, быть может.
В моём букете роза отцвела.
***
Ещё меня девушки станут любить —
прощай, если можешь, жена.
Ещё озорно доведётся мне жить —
карай по привычке, страна...
Я ваш, но не пленник, я ваш, но взамен
мне вольное сердце дано;
затянута кисть виноградная в плен,
но бродит, но бродит вино...
1959 г
.
Видать, и ты с женою, дома,
угрюмый, раздраженный, злой,
порою вспоминал о той,
о той, что иначе знакома.
К ней в гости запросто ходили,
и вечер с ней казался мал...
Любить-то все её любили,
а замуж взять — никто не взял.
Наивна чуть, беспечна слишком,
и бесконечно молода.
Ей-богу, если б не сынишка —
казалась девушкой всегда.
Никто на свете не был так красив, —
для той, которая его любила...
Какую грань она переступила
в последнем "если" — если был бы жив!..
Уже не взять усталых рук тепло,
не снять упрёков — явных или тайных,
не перебить, чтоб сердце отошло,
и встреч не ждать — условленных, случайных.
Бессонных снов не заполнять одним,
не улыбаться в зареве заката...
Сняла часы, подаренные им,
и вдруг, не глядя, кинула куда-то...
Ты не писал, должно быть, года два...
А я в душе всё время отвечала
на прежние, те милые слова,
что и в письме уже не получала.
Как я могу не думать о любви,
тебя забыв, другого разве встречу?..
Ты может счастлив — счастливо живи.
А плохо будет — напиши. Отвечу.
Не веря, нет, ни одному,
но верую в свой сон,
приходит женщина к нему,
не ведая — кто он.
Как будто всю мороз сковал,
и только там тепло.
Как будто душу он зазвал,
когда оно нашло...
Не спрашивая сколько раз
любя и не любя,
она всё ждет в зеркалке глаз
чего-то для себя.
Во что поверить бы могла
в его чужих руках,
забыв привычные дела,
заботы, стыд и страх...
Моей жене Саше
Родиться меня уломали с трудом,
но только явился на свет
двенадцать волшебниц слетелись в роддом,
и я улыбнулся в ответ.
Во всю улыбался — и добрым, и злым,
а вскоре они отлетели...
И я задремал под шатром голубым
в большой материнской постели.
Они ж насулили: успехов во всём —
в поэзии, в прозе житейской...
Насмешницы! Скрылись в дыму золотом,
а ты всё живи и надейся.
Найду их, найду, хоть взлечу на Луну,
и всыплю им, каждой, чтоб знала!
Но — честно — никак не обижу одну,
да, ту, что тебя обещала.
Должно быть, тыщи три — в читальнях.
Наверное, сотни три — в кино.
Кто знает — сколько: пьют вино,
или потеют в душных спальнях.
А меломаны — на концерте;
а тем — телеэкран важней.
Двенадцать душ готовы к смерти,
но сколько не готовых к ней?
Остервенело, оголтело
играют в жизнь или живут...
И в мироздании плывут
с Землёй, к себе влекущей тело.
* * *
За смех, за горести, за труд,
за всё, чем я плачу
мне там иную жизнь дадут,
которой не хочу.
Я стану благостен и тих,
на прошлых всех похож,
и для своих, и не своих,
и для себя хорош...
Как будет мне открыть невмочь
любую в мире дверь!..
И осторожно слушать ночь,
и плакать, как теперь...
* * *
Не стоит думать: сколько жить осталось?..
Вздыхать, что время тает на глазах...
Да нет же, нет! Какая к чёрту старость! —
вот — дождь прошел и вишня вся в слезах.
Душа проснулась, сделалась сквозной,
открытой жизни полноводным рекам...
И — звёзды расплывутся надо мной,
как в первый раз над первым человеком.
За сто грехов преподаватели
меня журили с детских лет,
и за плохие показатели
друзья таскали в комитет.
Пороков находилось множество,
и возводилось всё в квадрат,
и осознав своё ничтожество,
я признавался: виноват.
И день за днём, все дни тревожные,
и вроде не припомнить дня,
когда начальство всевозможное
не упрекало бы меня.
И в бесконечный раз наказанный,
и проработанный стократ,
я, рядовой жизнеобязанный,
твердил одно лишь: виноват.
И даже ты, моя капризная,
меня как будто бы любя,
нередко смотришь с укоризною:
"и дёрнул чёрт узнать тебя —
ты странный: то целуешь пламенно,
то безразличен — хуже нет..."
А я молчу, как на экзамене,
когда не в силах дать ответ.
И улыбаюсь от смущения,
и сам себе уже не рад,
я, как всегда, прошу прощения:
таким родился. Виноват.
Да, продавец: я продаю
легко и по дешевке
товар, что надо — жизнь мою
в чудесной упаковке.
Торгую радугами снов,
беру губами сдачу.
И вечный выбор свежих слов
в карманы я не прячу.
За откровенные глаза
всегда сбиваю плату,
но — даже лишняя слеза
не скатится по блату.
Могу всучить кота в мешке,
а также — взять обратно...
А — Солнце в золотом песке,
а — звёздочки в ночной реке,
а — радость в пёстром узелке
я подарю бесплатно!
Нет, не успел я к своему столу:
внезапно ведьмой прыгнуло вослед
и обскакало, спавшее в углу,
привычное, как пол в квартире — НЕТ.
Уйти? Куда — ни выхода, ни входа,
повсюду неизбежна встреча с ним.
Оно — души ненастная погода,
в семье раздумий серый нелюдим.
Ни книгу взять, ни запустить пластинку,
не отвлечет ни рюмка, ни тетрадь...
А кажется — легко, как паутинку,
"нет" в этой жизни взять и оборвать.
* * *
... спросонья
сверкнули ясности огни,
и — сразу отлетели донья
у вёдер, черпающих дни.
От бесконечного избытка
былого, что прошло насквозь,
предельно натянулась нитка
судьбы...
И — оторвался мозг...
Не дай Бог длиться той минуте —
лишь смерть прикажет: повтори.
Закрыв глаза от шедшей жути, —
что задержать в душе, внутри?..
Не скучно: дни, года, века
быть вечно тем же — нищим, Богом?..
Пошли шататься по дорогам
другого дня и языка!
Смеясь, губами оторваться
от губ. Вдохнуть вокзалов гарь.
Лечь в шестьдесят, проснуться в двадцать,
оплакать май, взорвать январь.
Пора рвануться — по-иному
грустить, работать, воевать,
спешить к неведомому дому,
дойти, и вдаль уйти опять...
Отличная комната есть у меня, —
владелец её — Горсовет.
А Солнце — моё ли в течение дня?
А Солнцу хозяина нет.
Вот Пушкина томик — всегда под рукой,
нет, всё же он Пушкинский больше, чем мой.
Позвольте, но деньги в кармане — мои ли?
Да нет же — ко мне ненадолго приплыли.
И даже на собственном теле бельё
скорее фабричное, а не моё.
И брови — мамашины — слышал я с детства —
достанутся сыну иль дочке в наследство.
Стихи, да, стихи, что пишу я — мои? —
Мелодию их напевали ручьи,
людские дороги слова подсказали,
а ритмы подхватывал я на вокзале.
Так что же моё — безусловно, навечно?
Душа? — Раздаю её миру беспечно,
я этой монетой плачу неразменной
за право моё — говорить со вселенной.
* * *
Стареем и скромно седеем.
Покойны, как рыбы в воде.
Не бьёмся, не служим идеям,
а попросту служим — кто где.
Не золото наше молчанье,
и не серебро седина.
Жизнь зеркала. Жизнь – примечанье
к той жизни, что людям дана.
* * *
Старик, что спутал жизнь — со счастьем,
и всё считает дней расход,
и всё глядит с подобострастьем
на всех, кто жизнь ему даёт.
На жадных женщин. На кассира.
На бесшабашных сыновей.
Он весь — в осколках пёстрых мира
под угнетённостью бровей.
Сам у себя он в услуженьи —
лакей, сидящий в короле...
Пришлось...
Земное притяженье
пригнуло голову к земле.
Нет, не терплю бумажных слов звучание:
"провозгласил", "возглавил", "обязательство";
значительное "благосостояние"
напоминает "ихнее сиятельство".
И "мир", и "дружбу" вроде рвут на части
бездумные газетные поэты.
Само необычайнейшее "счастье" —
подобие обкусанной конфеты.
Я власть имущих сдержанностью злю,
и так же непонятен я жене, —
что делать? — скисло древнее "люблю"
и в обиходе не живёт без "не"...
Богат язык. Его ль нам делать нищим?
Не познавать сокровищ словаря?..
Но в жизни мы другие клады ищем,
и на безмолвье тратим души зря.
* * *
Ветреные, впрочем, — не бездельницы:
зёрна перемалывать — работа.
Всё же: что вы, ветряные мельницы,
против сумасброда — Дон Кихота?
Всё равно вам — что там перемалывать,
ждёте ветра, пусть и ветерка.
Жизнь, душа, судьба — добро пожаловать! —
перемелется — будет мука...
Дон Кихот, поспеши, обломай у них крылья,
что кружась и кружась — не сорвутся с земли,
зарастают быльём, покрываются пылью...
А легенды, как меч твой, впустую прошли...
Воскресенье выдумал бездельник.
Работяга сделал понедельник.
Основали вторник господа,
а для слуг назначена среда.
Четвергом воспользовался лжец.
Подружился с пятницей мудрец.
И ушел от дум и от заботы
человек, рожденный для субботы.
Может, я — субботний человек?
Я устал. Я начал жить без цели.
И подался, как весенний снег
чудесам восьмого дня недели.
Новорожденный алюминий
лучист и светел как дитя.
Свистят ракеты, купол синий
размахом атомным крестя.
Поставленная на колени
седеет в бешенстве вода.
Золотоносная руда
сверкает, очищаясь в пене.
Не дрогнув мостовые краны
натужно тянут сотни тонн.
А грандиозные стаканы
несут застывшей бронзы звон.
Рулоном катится бумага —
готова на себя принять:
газету, сказку, счёт завмага,
и ложь, и гения печать.
Забросив гарем и презрев мудрецов
сбегает Гарун-аль-Рашид из дворцов.
В постылой подлунной одна лишь отрада:
тревоги и сказки ночного Багдада.
Рабыня, плененная в доме купца,
касыда, допетая не до конца,
и дивные сны морехода Синдбада...
Твоя ль, всемогущий кончается власть
с полночным хрипеньем часов?
Несчастной старушке не дашь ты упасть
под тяжестью вечных долгов.
И подлость узрев, обнажаешь ты нож,
как ангел добра— не калиф.
И девичью душу к рассвету возьмёшь,
не имя, но сердце открыв...
А в полдень — зевать и скучать во дворце,
таясь от палящих лучей.
О золоте слуги шумят, о свинце,
и пленники ждут палачей.
Весело ехать — летит грузовая,
рябью погоны — набита битком.
Эх! Не вагон, не площадка трамвая —
весело мчаться — во всю, с ветерком!
Так и лететь бы...
Но вдруг: остановка.
Чуть бы пораньше, хоть на пять секунд...
Чёрт подери — получилось неловко:
намертво сбит и тяжел, как чугун.
Васька, шофёр наш, да что с тобой будет?
Видим, как ужас бежит по глазам.
"Разные разности делают люди...
Этот вот, мёртвый — он бросился сам..."
Хватит допрашивать — что за манеры, —
мёртвого, трупа — к живым не вернёшь.
Тридцать свидетелей — все офицеры:
"Самоубийца".
Бывает. Что ж.
Не подводят свои ребята,
тридцать таких — настоящих мужчин.
Был бы полный порядок, так на тебе:
тридцать первый нашелся. Один.
И утверждает, что тот и не думал,
не собирался с собой кончать.
Вот ведь, паршивец — наделал шуму.
Словно погибший воскрес, чтоб кричать
правду... Выходит, что тридцать — не правы?
Лжи во спасенье служить — не резон?
И не нужна одинокая правда,
призрачной совести вечный закон.
Луна сошла. Но слишком в мире звёздно —
влюбленному, и то не по себе:
стоглазый Бог высматривает грозно
и надрывает ниточку в судьбе.
У Бога люди в каторжном долгу,
а Господу не жалко никого —
ни бунтаря, ни царского слугу,
ни горестного сына своего...
Он — Бог страдальцев. Что Ему молиться?
Изгнав из рая, не сулит ли ад?..
Пересчитай-ка сребреники — тридцать,
твои они, не хуже звёзд блестят.
Апостолы уснули. Лишь Иуде
не спится, и тоскливо неспроста.
А рядом — очарованные люди.
И золотятся локоны Христа
как ореол. А руки в синих жилах,
благословляя грешников — не спят.
И пот на лбу — как ландыш на могилах.
И тенью рока чистый сон распят...
Он сотворил немыслимое чудо,
Он глаз не вскинул — этот человек,
чтоб содрогнувшись не прочёл Иуда:
"Ведь это ты на смерть меня обрек..."
* * *
Королева отдаться решила.
Но кому?
Те, с которыми тускло грешила,
как-то канули словно во тьму.
Чёрт возьми!
Со времен безмятежного детства
тот, кто в спальню её допускался порой,
осчастливлен такой королевской игрой
полагал, что в руках у него - королевство.
Дурачьё...
И в наряде придворной служанки
подхватилась, и праздничный выбрав момент,
в заповедном лесу после бурной гулянки
повалил её тощий голодный студент.
Целовал, восторгаясь, холёные руки,
обещал: кружева, драгоценности, трон,
и просил подутюжить парадные брюки
и прощаясь насмешливый отдал поклон...
Королева вздохнула, слегка загрустила;
облачась в золотые наряды свои,
как обычно себя величаво простила
и погрязла в делах королевской семьи.
Жил на земле человек невезучий,
был некрасив он, тщедушен и мал.
Может, ему не родиться бы лучше?
Но — ведь не он это дело решал...
Как-то он в поле наткнулся на камень —
с места не сдвинешь почти;
и — обхватил его жадно руками:
в дом бы к себе привезти!
С ним ни гроза б ни пугала, ни вьюга,
так бы — навеки вдвоём —
вместо жены, иль ребёнка, иль друга
жил бы он в доме моём.
Выпросить смог у соседа подводу,
выехал рано, чуть свет...
Боже! А камень-то канул как в воду,
нет его камня как нет.
Тысячи лет, а верней — миллионы
без толку здесь пролежал...
Выдумал Бог для убогих законы
или для них это дьявол решал?
Недалеко пускали братья стрелы,
в невесты взяв — боярышню, княжну.
А ну, Иван, твоя пора приспела...
Лети, стрела, найди-ка мне жену.
От тетивы легко оторвалась ты
и в поднебесье — сколько хватит сил,
как сын, что вырван из отцовской власти
да в дальних землях голову сложил...
Летит стрела. Пронзила пень замшелый.
Гляди: зелёная, как листья по весне,
сидит сама, квакушечка на пне,
и лес дрожит в глазах её несмелых...
Вот это да! Вот это шёл к невесте...
А та вцепилась намертво в рукав.
Охота что ли мыкать горе вместе?
Свела судьба, крута, как отчий нрав.
Ну кто ты мне? Куда тебя запрячу?
Что ты умеешь кроме прыг да ква?..
_____ * _____
А тут невесткам задал царь задачу,
из-за стола не выгнав их едва.
Ты такого ему испеки пирога,
чтоб дразнил, и манил, и пыхтел,
напуститься с ножом, как порой на врага,
да чтоб сытый его захотел!..
Словно камень в реке, горе тонет в вине...
Дрёма в призрачной лиственной шали...
Только очи её словно плыли во сне,
только девичьи руки мелькали...
Нарубили морковь, натушили морковь —
во начинка! Красна и вкусна, как любовь!
И нарезали лук, и поджарили лук,
не прольётся ль слеза, как предтеча разлук.
И печенку с крутым накрошили яйцом,
а на том расквитались с одним лишь концом.
А с другого конца разломаешь пирог —
так и тает во рту пожелтевший творог.
А надрежешь, где яблочный сок, как смола,
и нельзя никого оторвать от стола...
Отведал царь пирог необычайный
и повелел: ни крошки никому!
_____ * _____
А сыну, Ване и хозяйке тайной
не лучше ли жить в далёком терему?..
Часов не слышно в домике старинном,
играют в прятки Солнце и Луна.
И облака в полёте журавлином
спешат на юг — пока вернёт весна.
Вечерним светом полные поляны,
дух ранних яблок в воздухе ржаном.
И девушки над речкой, глядя на ночь,
поют любовь с печальным озорством...
А что за радость — быть законным мужем,
но в одиночку тешиться вином,
пока супруга прыгает по лужам
да под ядрёным нежится дождём...
А впрочем...
Счастье — это как сказать,
лягушечка занятная — дай боже.
Мечта, которой не видал в глаза,
бывает той, что спит с тобой, дороже.
Привычное — дешевле вполовину,
неузнанное — дорого вдвойне...
Чем день-деньской месить напрасно глину,
а ну, скачи, хорошая, ко мне!
Ты глянь кругом, лягушечка родная:
весь божий мир кормя и веселя,
и никаких правителей не зная,
она ведь наша добрая земля.
На ней живёт — с рожденья до рожденья
разнообразный, злой и добрый люд...
О чём жалеть?
Пускай прошло цветенье, —
весной цветы другие зацветут.
Под Солнцем, под Луной, под облаками —
весь мир для нас сплетается в узор,
и, может быть, бессмертными шелками
возьмёт и вышьет памяти ковёр.
Что царь тебе — волшебной мастерице,
не принятой чванливыми людьми?
Ты — это жизнь, которой нет границы,
судьба моя — как хочешь — так пойми...
С разгону шмель сбивает одуванчик,
устало небо — тает в васильках,
а хрупкий ландыш — белокурый мальчик —
обижен кем-то, задремал в слезах.
И северное сыпется сиянье,
и льётся Солнца жаркого янтарь...
Вот так ковёр! Очей очарованье, —
воскликнул бы, будь он поэтом — царь.
"Невестка — разукрасила державу!"
Да только лесть у Вани не в чести: —
Ковёр и вправду выделан на славу,
но, батюшка, за правду мне прости:
расстанься с приближенным — не как с другом,
от золотого отступи окна,
и, спину сгорбив, походи за плугом —
наверно так — вся родина видна...
Нахмурился, задумался владыка.
Ковёр погладил. —
Знаешь что, сынок:
на пир ко мне с женою приходи-ка,
чтоб ей самой сказать спасибо мог...
_____ * _____
Какой там праздник, если плакать впору...
Иван напялил на себя парчу:
— Ну, не скучай, голубушка, я скоро...
А та: — ступай, я следом прискочу...
Резная дверь пружинится всё реже,
а на пиру гостей невпроворот,
глазами рыщут, — молодая — где же?
А сам Иван её со страхом ждёт.
Вошла. И те, что за столом — привстали:
Она?..
Эй, Ваня, говори: она?..
Не сразу после тягостного сна
поверишь в явь, что так светла всегда ли...
Глядит...
Вот чёрт — ведь что-то в ней осталось
от той зеленой на замшелом пне...
Он кубок поднял и помедлив малость:
жена, родная, ну иди ко мне...
Сразив врага, легко вздыхает витязь:
выходит, выиграл и на этот раз.
И завистью, друзья, не подавитесь,
быть может, счастье будет и у вас...
_____ * _____
... Опрокинулась звёздная россыпь
прямо в душу, до самого дна.
И развеяла девичьи косы
залетевшая в терем Луна...
Утром Солнце слетело с постели,
заиграли, зажглись зеркала...
— Неужели теперь, неужели
ты в судьбу не навечно пришла
нашу?
— Нет, и Солнце переменчиво,
обнимает только полземли.
Счастье — гость — хоть щедрый, но застенчивый,
мы к нему лишь на порог пришли
в гости звать...
А ты не будь как нищий,
что подземный не осилит клад.
Если от добра добра не ищут,
не спеши — себе не будешь рад...
_____ * _____
И — унеслась...
Зачем горит печурка?
Тоска, тоска. От дыма резь в глазах.
Лягушачья нетронутая шкурка —
шальная память в мужниных руках...
Не он один заждался счастья слишком,
закоченев, пожарче жаждет жить,
отдав мечты пророкам и мальчишкам,
он хочет сам несчастья придушить.
Так жемчуг, что добыт со дна морского
роняешь в волны, сам себя кляня.
Так, вдруг сверкнув, спасительное слово
запропастится в сутолоке дня...
А счастье разве удержать руками?
И ждать его порой невмоготу,
Иван схватил и бросил шкурку в пламя,
как душу смерть швыряет в пустоту...
_____ * _____
И ничего не изменилось вроде
на свете. Притаилась тишина.
И — так же звёзды пляшут в хороводе,
когда сорвётся звездочка одна.
И мир её как будто бы и не был,
и не рождался, и не жил века.
Ни дней, ни вёсен, ни цветов, ни снега —
лишь в миг последний — смертная тоска...
— Ой, вместо той лягушачьей одежды
меня б спалил — душа была б с тобой,
а так — прощай, любимый, без надежды
что счастье снова ты найдёшь с другой...
_____ * _____
Всё, всё прошло. И разве что-то будет?
Недолго вешний выстоял букет
И нет в нём жизни...
Да живут же люди!
А кто их знает — может быть, и нет...
1955-2005 г.
Ёж как-то раз прочёл в газете
О том, что есть слоны на свете,
А до сих пор в своих лесах
Он и не слышал о слонах.
"Скажи,- спросил он у жены, -
А для чего слоны нужны?"
"Невежда ты, я погляжу,
Жена ответила Ежу, -
Ещё к медведю ходишь в гости!
Не знаешь? Ладно, я скажу:
Для брошек из слоновой кости".
Журнал "Крокодил", 20 марта 1952 года. "Библиотека "Крокодила" № 87. Спустя всего менее четырёх десятков лет с дореволюционной эпохи, ещё были в ходу подобные украшения модниц XIX – начала XX века.
Петров (он в главке занимает пост высокий)
Дела в короткие решает сроки.
- Чтоб не забыть, Людмила Алексевна,
Позвоним на второй завод,
Пускай директор к нам зайдёт,
И я, - Петров добавил гневно, -
И я ему мораль прочту!
- Как? Он ведь со своим заводом
У нас не на плохом счету,
Завод всё краше с каждым годом,
Мы ставим всем его в пример!
- Бывает всякое на свете,
Вдруг что случись, так мы в ответе.
И вот тогда никто нам не заметит,
Что мы не принимали мер!
* * *
Иной Петров глядит на горизонт,
Хоть тучи нет, он... раскрывает зонт.
Журнал "Крокодил", 10 октября 1952 года.
1.
Ночевала тучка золотая
На груди утёса-великана...
Утром призадумалось начальство:
"Ночевала значит!... Тучка!... Странно!..."
И остался важный знак вопроса
В вечной биографии утёса...
2.
"Всё куплю",- сказало злато,
"Всё возьму",- сказал булат...
Догадалась тётя Ната:
"У Булата, видно, блат..."
Журнал "Крокодил" 30 декабря 1959 года.
Эти полупародии представлялись актуальными в то время. Начальство следило за "моральным обликом" подчиненных, и осуждало не только словесно проявления "аморальности". Тогда же и слово "блат", отражающее определённые тенденции в общественной жизни, сделалось общеупотребительным. В довоенном, конце 30-х годов, словаре, это слово определяется как "воровское арго", жаргонное, в значении - преступления воровства. "По блату (новое, просторечивое, вульгарное) - незаконным способом". Пример: "Получить что-нибудь по блату в кооперативе".
Кроме опубликованного, я послал в "Крокодил" и перефраз из сочинений вроде бы какого-то Козьмы Пруткова: " Вы любите ли сыр? - спросили раз ханжу - "Советский" сыр люблю, я вкус в нём нахожу". Таково было товарное название одного из сортов сыра, но двусмысленность шутки вряд ли тогда могла преодолеть цензурный заслон.
И всё же - так пародировать классику - не кощунственно ли? В одном из своих опусов на своём сайте разбирал Пушкинскую маленькую трагедию "Моцарт и Сальери", эпизод с исполнением, весьма, так сказать, непрофессиональным, музыки Моцарта - слепым скрипачом. "И ты смеяться можешь" - Сальери возмущен непосредственной, можно сказать, ребяческой реакцией гения на то, как скверно прозвучало им сочиненное, на грани пародии. И продолжает: "Нет, мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля, мне не смешно, когда фигляр презренный пародией бесчестит Алигьери.." Можно вспомнить Зоила с его "Порицанием Гомеру", Писарева с нападками на Пушкина, одиозных хулителей Михаила Булгакова, Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Михаила Зощенко, но ни всё это злопыхательство, ни более или менее занятные пародии, ничуть не повлияли на великие произведения литературы, искусства, и трепетное отношение к ним всё новых поколений. И вспоминаются заключительные строки басни Крылова "Цветы": "Таланты истинны на критику не злятся: их повредить она не может красоты; одни поддельные цветы дождя боятся".
В какой-то день отменно жаркий
Медведь за тридевять земель
Пошёл искать нарзан.
И в парке
увидел чудо: карусель
Обнюхал. Тронул. Сел. А ну-ка!
Проехал раз, и два, и три...
Вот это да! Вот это штука!
Вот это, черт его дери!
Такое к нам бы в учрежденье
Упрямым критикам назло.
Положишь на скамью решенье,
И завертелось, и пошло.
И кажется, что быстро едет,
Но ни на шаг не ближе цель.
* * *
А много важных дел медведи
Не прочь пустить на карусель.
Журнал "Советская Украина" № 7 за 1952 год.
Из статьи "Отдел сатиры и юмора в "толстом" журнале, автор А. Фесенко. Газета "Известия", 4 феврали 1953 года (за месяц до смерти Сталина). "... Некоторые басни отвлеченны, изобилуют штампами, серыми описаниями. Вот, к примеру, басня Г.Филановского "Карусель". О чём она? Некий медведь в поисках нарзана отправился в жаркий день в парк и увидел там чудо - карусель. Обнюхал. Тронул. Сел. А ну-ка! Проехал раз, и два, и три... Вот это да! Вот это штука! Вот это, черт его дери! Такое к нам бы в учрежденье упрямым критикам на зло. Положишь на скамью решенье, и завертелось, и пошло. Беда этой басни в том, что в ней слабо выражены идея, конкретные черты высмеиваемого "предмета".
Один ретивый Воробей,
став управляющим опушки,
издал приказ насчёт Кукушки.
Во-первых, ей
Сейчас же полюбить детей.
И, во-вторых, своих яиц
Не класть в чужие гнезда. В-третьих
отныне обязать всех птиц
докладывать о фактах этих.
В-четвёртых, поручить Скворцу
прочесть сегодня в семь пятнадцать
доклад о том, что не к лицу
от материнства уклоняться.
Вороне обеспечить пренья
и доложить об исполненьи.
Приказ висел. Доклад был сделан тонко.
И прославляли Воробья везде.
Но очень скоро в собственном гнезде
он обнаружил Кукушонка.
Журнал "Советская Украина" № 7 за 1955 год.
К Ежу во время вечеринки
ворвался махонький Сверчок, -
продрог, и хлюпают ботинки,
зелёный галстучек намок,
глазища вылезли на лоб:
спасайтесь, граждане - потоп!
Шумят подвыпившие гости;
да что он мелет! –
Братцы!
- Бросьте...
Ну, говори, но толком.
- Звери!
я сам... И мне нельзя не верить!
Я к вам едва добрался вброд:
предупредить честной народ - потоп идёт!..
_____ " _____
и как не быть такой беде,
когда Сверчок по шею был в воде?..
У Миши Петрова чего только нет:
бинокль,
макинтош,
патефон,
кабинет.
И галстуков куча,
и новая шляпа,
и девять поклонниц,
и мама, и папа.
Медалью отмеченный
пёс "Баловник",
друзья,
радиола
и несколько книг.
Но главное, что ещё месяц назад
позволило Мише гордиться:
окончена школа, в руках аттестат,
в котором лишь тройка - царица.
Но папа,
и мама,
и тётя,
и дядя
на милое чадо восторженно глядя,
решили, что с этой великой минуты
приходит пора штурмовать институты.
И тут зазвучали такие мотивы:
"Он очень способный, но только ленивый.
Он шёл на медаль, но "подвёл" педсовет,
устройте его на любой факультет.
Ведь он же не может работать шофёром
с таким интеллектом, с таким кругозором!
Ему ли, имевшему всюду успех,
идти сталеваром куда-нибудь в цех?
Ему ли, читавшему "Три мушкетёра",
себя довести до такого позора?!
Любыми путями устройте его
хоть в пед, хоть в физкультинститут,
здоров он, сдавал на значок ГТО,
но любит лишь умственный труд.
А если по конкурсу он не пройдёт,
так годик пускай отдохнёт от забот"...
И дядя изрёк: "Мы пошлём его в Сочи,
пускай впечатляется в лунные ночи".
"Не выйдет,- ответил заботливый папа,-
сначала Сухуми, а после Анапа".
Мамаша вздохнула: "А, может, Артек?"
"Ну, нет,- возразил молодой человек,-
Смешно! Вы забыли, что я не мальчишка.
Отправлюсь в Гурзуф - ничего городишко..."
И дома решает семейный совет:
что делать, чтоб сын получил студбилет,
зачётку,
стипендию
и потом,
конечно, диплом...
Мораль наших строк можно выразить вкратце:
в науку дорогу закрыть тунеядцам.
Газета "Сталинское племя", 18 августа 1954 года.
Последние две строчки - пришлепнуты редактором.
За отличную отметку
Папа Мише дал конфетку.
Младший братец невесёлый:
- Мне ведь тоже скоро шесть,
Я хочу скорее в школу,
чтоб конфет побольше есть.
"Агитатор" № 9 за 1964 год.
I
Любовь, конечно, всемогуща...
В любой из щедрых летних дней
к её услугам пляж и Пуща,
кино, жара и соловей.
Но вот на Солнце тушат печи,
счищают пыль с седой Луны,
уже комарик пискнул: вечер,
и к нам из тьмы крадутся сны.
Смеясь, целуются подростки,
идёт вразвалочку моряк,
и озорные вертихвостки
хохочут, замедляя шаг.
Поэт, прославивший вождя,
бутылку открывает ловко,
и как асфальт после дождя,
блистает славный Казановко...
II
Да, на извечной Куренёвке,
как сом в реке, лиса в норе, —
в хибарке тетиной золовки
он обитает — юный, ловкий:
входите гости!
Во дворе
сарайчик небольшой ютится —
его жилища вестибюль:
там сушит запахи июль,
январь снегами серебрится,
март прорывается ручьём,
зато сентябрь увит плющом.
Входите, наклонясь немного,
теперь присядьте на сундук.
Теснится прошлое вокруг:
истёртый коврик у порога,
буфет, что начал жить по-шкафьи,
храня бельё, но не хрусталь.
На стенах — древность фотографий,
застыли радость и печаль.
Вдали от Мексики пустынной
ленивый кактус располнел,
и побежден ордой мушиной,
скривившись, абажур висел.
В трюмо старинное перина
вползла — ах, до чего пышна,
и Солнце там с неё со сна
встаёт с багровой пухлой миной,
и, воздух днём согрев как печь,
готово за бугром прилечь...
III
Но обратимся же к герою
поэмы этой — да живой,
в цеху, под крышей заводскою
он во плоти передо мной.
Пытаясь отразить реальность,
по этой личности скользя,
увы, его национальность
определить никак нельзя.
Кто знает — с кем водились предки,
и что добавила среда, —
такие случаи нередки:
многообразны города.
Нет, не похож он на еврея,
не виден в нём избыток сил,
что в русском трогательно мил;
Восток горячий в нём не греет
души, и с гонором поляк
не обнаружится никак.
Искристый юмор Украины,
лукавство трепетных сердец
у губ суровые морщины
перечеркнули — и конец.
Он из чурбана небольшого
был сделан наскоро — так прост.
Да, кстати, нужные два слова
про даже и не средний рост.
Кого отчизна призывает,
и в сантиметрах измеряет,
есть норма — сто пятьдесят два,
и счастлив тот, кто достигает
священной метки хоть едва.
Но он был ровно полтораста,
его измерив, медсестра,
вписала: "Мал. Не годен". Баста!
В гражданку двинуться пора.
IV
Ему пророча ангел горний
так троекратно возгласил:
ты будешь шорник! Шорник! Шорник,
Как дед и как отец твой был.
И утверждён в своей юдоли
под покровительством ремня
он этому учился в школе
фабрично-заводской, храня
завет отцов. И вот — умеет
на колесо накинуть пасс,
он дратвой мастерски владеет,
и премирован был не раз.
Кто скажет — поздно или рано,
избегнув тяжести венца,
он превратился в донжуана,
стал мигом покорять сердца...
V
Как дед его махоркой трубку,
любовью он не набивал
ни ум, ни сердце: встретив юбку,
был в меру сдержан и нахал.
Смотрел на дело равнодушно,
и не показывал, что скучно
девчонки слушать хвастовство;
ни злость, ни ревность, ни упрёки,
ни ясные на брак намёки —
ничто не трогало его.
И знать наверно не поэту —
в очаровательной игре
гора ль бежала к Магомету
или Магомет трусил к горе.
VI
Не виноват военкомат,
что Казановко — не солдат...
Мундир меняет человека,
как бедняка отрытый клад,
кому не выгодна опека?
кто в общий строй вступить не рад
Команду слушай: левой, правой!
А в праздник будет борщ густой.
А также девочки — забава
в солдатской жизни холостой.
Артиллеристы и танкисты,
народ весёлый и плечистый —
что девочкам ещё желать?
взяв увольнительную, быстро
бегут на славу погулять.
Куда? Попробуй уследить —
на Куренёвку, может быть...
VII
Между землёй обетованной
с лукавым именем Подол,
и Пущей, где трамвай прошёл,
раскинулся немного странный
клочок украинской земли.
Здесь по утрам гудят заводы,
и Днепр смиренно катит воды,
а Лавра высится вдали.
Не часто — раза три на век
евреев бьют, чтоб жить получше,
а куреневский человек
смеется: до чего живучи...
Taм пахнет издали столицей,
как бархат нежен небосклон,
и под Кирилловской больницей
расположился стадион.
И день за днём, и год за годом
шел путь на Куренёвку мой,
да, с тем народом, с тем заводом,
я жил, но всё ж спешил домой.
И было всё на кожзаводе:
и сырость при любой погоде
в цехах, и "барабанов" гром,
и в зольном богатырь с шестом.
Директор, лошади, собака,
брехуха Шистка, крыс атака,
и жир мездры, и гуща лака,
плакат "работаем без брака!",
и черти из ночного мрака,
гулянки около барака,
без шика Шик и Фрак без фрака,
несовершенный Недопака,
и спьяну бывших зеков драка,
Резиновые сапоги…
эпохи тяжкие шаги...
VIII
Бывало битая старуха
тут продавала самогон,
но страж порядка Маремуха
взошёл на милицейский трон.
Предвидя вёрткий ход событий,
и дисциплины чародей,
направил в сумрак общежитий
своих проверенных людей.
Среди забот разнообразных,
высокой ревностью горя,
они ночами от соблазнов
солдат гоняли в лагеря.
О, эти жуткие мгновенья —
в окне бесстыжий лунный свет,
и шепот "ой, до воскресенья...",
и вздохи десяти Джульетт,
на стульях девичьи манатки,
хрипенье радио во мгле,
и песен спящие тетрадки,
и корки сала на столе,
и винные бутылки — к сдаче,
всё только так, а не иначе.
И Казановко здесь бывал —
хоть ростом мал, зато удал...
IX
Я быль плету как будто сказку,
и не гляжу ни вглубь, ни вдаль,
и сквозь неясную окраску
никак не видится мораль.
Стихосложенье — не задача
для рифмоплёта, но зачем?
Пускай и в этом неудача, —
нет привлекательнее тем.
Когда-нибудь в тетрадке пыльной
среди достойных умных книг
начну своё читать умильно,
и вспомню прошлое на миг.
Как я страдал от несвободы...
И что мерещилось вдали?..
Мои студенческие годы,
признаться, сумрачно прошли...
X
На конкурсе красы вселенской —
готов поспорить на пари,
не тёзке греческой, но Лене
восторги б отдало жюри.
Она ж, своей подруге лучшей,
вздыхая, говорила: Он!
Меня с ним свёл счастливый случай,
и кажется, что это сон,
и, то что было — подготовка
к такому празднику любви!
О, с Куренёвки Казановка!
С ним вечно, для него живи...
XI
Ему завидовать? Не знаю —
такая Лена — надоест.
Нет, в жизни без конца и краю
немало превосходней мест
и впечатлений... А живётся
бездумно.... Впрочем — каждый прав
по-своему.... А для забав
со словом, с памятью.... Неймётся
всё на бумаге воплощать.
Истлеет старая тетрадь.
Всё, что от прошлого осталось,
от жизни. Да, такая малость...
В 1949-1952 годах я работал на 6-ом Госкожзаводе, что на Куреневке – посменно, при непрерывном производстве, с выходным днем в пятницу. Фамилии рабочих – Шик, Фрак, Недопака, и Маремуха, милицейский начальник. Шистка – не выдумана, так же, как прототип героя поэмы и конкретные приметы тогдашней заводской и не только – жизни. И – на Куреневском кладбище похоронены мои бабушка и дедушка, и Бабий Яр – тоже на Куреневке.
1952-2005 г.
Авторские комментарии, примечания к стихотворному произведению узаконены Пушкиным — к "Кавказскому пленнику", "Полтаве", "Медно¬му всаднику". Полагаю, нелишни и к этой моей юношеской поэмке, в какой-то степени отражающей былое, послевоенное в Киеве рабочем, что отдельными штрихами для читателя XXI века не менее ирреально, чем иные, не очень оригинальные описания инопланетянского антуража. Речь идёт и об особенностях производства на кожзаводе, где я несколько лет работал в середине прошлого века, и немного о тех, кто по тогдашнему советскому лексикону входил в штат предприятия.
Июнь 2013 года
Знает ли фокусник — шустрый парнишка,
что в сундучке, где ни дна, ни покрышки?
Но, как и мы, удивляется он,
если оттуда петух извлечен.
Знает ли сам секретарь комитета —
так ли работа поставлена где-то?
Знает: общаясь по двум телефонам
сразу — с начальником и с подчиненным.
Чувствуют две телефонные трубки
волчьи клыки и лягушачьи зубки.
Знает ли Клавка шестнадцати лет —
любит Серёжка её или нет?
Знает — и в этом нельзя усомниться —
как же такому в неё не влюбиться...
Знает замок — для чего он повешен,
знает цикорий — во что он замешан.
Знает кошелка, что вынесет ношу.
Знает ботинок, что сядет в галошу.
Знает и зонтик, как истинный рыцарь —
кто в непогоду сумеет раскрыться...
Чистые в новой тетради листки
рта не раскроют, хоть режь на куски.
Но, через годы раскрывши тетрадь,
разве меня ты не сможешь узнать?..
...Часы пошли обратным ходом.
И — откричав "ару!.." ("ура!"),
разняв бокалы — с прошлым годом!
мир задом въехал во вчера.
Сквозь лето проступив, весна
затем перемерзала в зиму.
Темнела старцев седина,
а также крепла плоть незримо.
Прощаясь с женами, с комфортом,
с инфарктами, что свалят вдруг,
и, ошалев, гоняли чертом
за всеми юбками вокруг.
Вещали мудрые воскреснув,
но скукой веяло густой,
ведь наперед (назад) известно —
что там напишет Лев Толстой.
Какого рода примитивы
изобретает Эдисон.
Но женщины нетерпеливы:
за прошлый год представь фасон.
Вспять мчится времени река,
и вдохновенно, и тревожно,
не знают средние века,
что имя дьявольское: — сложно...
______"_____
Гротескная условность жанра фантастики издревле позволяла сочинителям таких произведений представлять и своё виденье общественного устройства - без привязки географической или временной, вроде бы абстрагированное от родной земли, а, по-сказочному - "в некотором царстве, в некотором государстве". Так рождались разного рода утопии - сходные с "Утопией" Томаса Мора - от "Атлантиды" Платона до "Туманности Андромеды" Ивана Ефремова. И, соответственно, можно сказать, со знаком минус называемые с недавнего времени антиутопиями - опять-же от Свифтовской "Лилипутии" до "Мы" Замятина, "1984" Оруэлла, и завуалированно - в некоторых вещах Стругацких и "Часе быка" того же Ефремова.
Перенос фантастического действия в неведомую державу мог быть нейтральным идеологически - дабы не опираться на действительность родины автора, в своё время с элементами познавательными, как у Жюля Верна; но в советское время по мнению идеологических вождей такой поворот мог послужить и разоблачению "гнилого капитализма", и литературные конъюнктурщики начали осваивать эту литературную целину, глубинной вспашки не требующую. Незамысловатый сюжет и штампованный набор кошмаров империалистического существования. Нетрудно представить в то время, скажем, такое. Некто, считающийся фантастом, пишет заявку на роман примерно со следующим содержанием.
Напуганные ростом протестов трудящихся, пролетариев против капиталистического гнёта, акулы бизнеса находят способ расслабить эти "гроздья гнева" по Стейнбеку - засекреченным изобретением психотропного воздействия на характер сновидений - по-фрейдистски представляющих вожделенные желания каждого. Попутно в таком романе высвечиваются разные негативные стороны царства "золотого тельца", и - осознание передовыми, прогрессивными пролетариями и прозревшими учёными пагубности таких мероприятий - вообще и в частности...
Представив себе подобное произведение, не мог удержаться от стихотворной пародии - "Однажды этого не было".
Идейными были:
фантастикой были
по западной гнили
от Бонна до Чили!
Эй! гарсон! приличный сон! — Джон умел держать фасон.
Сделал вид слуга валюты, что совсем не потрясён:
— Вам? Супруге? Шансонетке?
— Ррразмахнись на полпланетки! — дико рявкнул главный босс. —
Поливай! Решён вопрос...
— Но, хозяин, ежли в песо, — набежит почти мильярд...
— А не жалко для прогресса! — Джон ударился в бильярд,
И сигару в четверть мили по привычке сунул в рот,
подождал, чтоб откусили и зажёг наоборот...
Был он гнусный шаромыжник, хуже гангстера — койот:
не даёт приличной жизни и трудиться не даёт.
На интриге съел собаку, в демагогии силён,
на людей повёл атаку: погружает в сладкий сон.
Дескать, баюшки-баю, почивайте, как в раю.
А делов любой охват может выдать автомат.
В нашем сонном океане вмиг настанет тишь и гладь
(также божья благодать).
Смита я держу в запасе — он мастак изобретать...
Исключительную штуку запустил профессор Смит
(с головой ушёл в науку и такой имеет вид):
научил в одно мгновенье фирму Джона и сыны
выдавать под настроенье завлекательные сны.
Стоит сон всего полтину, превращая бедняка
В бессловесную скотину, во храпящего быка...
За какого-то чудилу Джон профессора держал,
как в холодную могилу посадил его в подвал.
Не давал общаться с миром, даже с собственной женой,
а кормил одним кефиром, да и то под выходной.
Уверял беднягу Смита, что кругом — его враги,
и раствором винилита часто капал на мозги...
Джон в шикарном Кадиллаке выезжал как биржевик,
небоскрёбы и макаки, густопсовые собаки,
каждый вечер пиво-раки — он иначе не привык!..
А профессор, между прочим, дружен был с одним рабочим,
хоть до выпивки охочим, но — разумная башка.
Говорил он Смиту вот что: зря валяешь дурака:
Этот Джон и эти сны на хрена тебе нужны?
Откажись от всякой пищи, засади себя в тюрьму —
пусть себе другого ищет, что ты — нанялся к нему?
Но профессор-доктор Смит был как мокрый динамит...
А сынок у Джона был исключительный дебил:
рок-эн-роллы, коктейль-холлы, висты-твисты он любил.
Что у Вилли было кроме миллионов? Но нахал
подвизался в белом доме, забавлялся в жёлтом доме
и в публичный забегал.
Демократию он хаял, ездил в JIoc и в Анжелос,
папа в нём души не чаял — Вилле виллу преподнёс.
Но на вилле этой самой этот самый, так сказать,
развлекаясь с энной дамой вздумал папочку продать.
Конкурент по части снов даму цоп и был таков...
Заварилась было каша, нанял гангстеров папаша, —
конкурентик дуба дал — он в гробу его видал.
Вилли враз лишил наследства, предназначенного с детства,
вообще сыновьих прав, к дальней матери послав. —
Хватит! — Джон воскликнул, — дудки! К чёрту родственные
шутки!
Только фирму полюблю.
Вместе с ней за полминутки континенты усыплю!
Упомянутый гарсон с господином в унисон.
Чтоб не выполнить заказа как всемирный патриот? —
нет, подобная зараза на такое не пойдёт:
рад стараться сукин кот...
Солнце село, люди тоже, наступила тишина,
и тогда на самом деле Джон включает волны сна...
Как безумный Джон хохочет, усыпить он совесть хочет
у шахтёров, у актёров, у монтёров и лифтёров,
у гризеток и субреток, у работников кино,
у бастующих шофёров, у продажных репортёров
и у тех, кто не играет ни в бейсбол, ни в казино.
За волной бежит волна привлекательного сна...
Сладко спит бродяга Дилли, и не думает о билле,
вроде он в автомобиле, две красотки: — или — или...
В грёзах Бобби: стал он лобби, на досуге — вот так хобби —
приучает он китов грязь счищать с любых мостов.
Чёрный Джон во сне блондин, чёрных духом господин;
от цветущего коттеджа до закрытого колледжа сына возит лимузин.
Графоман Двадцатый Векс на закуску хочет кекс —
все изюминки закуски заключают скрытый секс.
Мери снится кто-то стройный, молодой и беспокойный,
обеспеченный и знойный, снится три часа подряд,
как и двадцать лет назад...
Снятся девочки солдатам, генералу снится атом,
одиночество женатым и супруги холостым.
Виски снятся пьяным в дым...
И такой сеанс для масс длится сто девятый час...
Доктор Смит один не спит (у него антимагнит),
«Я, выходит, трали-вали, а от Джонов ждал морали?.,
дескать, снов не пустят в ход...»
(те, что спрятаны в подвале, не однажды прозревали:
в мыслях полный поворот),
... Друг рабочий! Где он, где? Не поможет ли в беде?
Как нарочно — это точно — тот проснулся по нужде.
Проскочил подземным ходом в упомянутый подвал,
постучал особым кодом и профессора прижал:
— Пусть на мне простая роба, мы теперь с тобою оба,
не расстанемся до гроба: что нам Джон и эта проба
выдать сон на все мозги? Смит, ты понял — кто враги?
А теперь пока живой поработай головой!
Смит пустился без оглядки, взял нейтронные перчатки
и нажал на рукоятки: альфа, бета — всё в порядке,
гамма — восемь, дельта — пять,
я им дам меня сажать!..
Заработало оно. Волны канули на дно.
У паршивого гарсона (вот нонгратная персона!)
до сих пор в глазах темно.
Он ведь думал за услугу заработать миллион.
Но подался с перепугу в кабинет, где правил Джон.
— Ах ты жулик! ах ты плут — стеком Джон вершит свой суд. — Дай прибью, покамест Смит нас с тобой не усыпит...
В это время — настежь дверь.
— Джон, скажите, что теперь?!.
На пороге нищий Дилли, он сюда примчался в мыле,
и бродяге не до снов.
И о собственной особе стал иначе думать Бобби —
он серьёзен и суров — чистить сам мосты готов.
И по-прежнему проворный, но прямой и непокорный
Джону Джо бросает чёрный: дай мне жить и будь здоров!
Мери толстая спросонок разрыдалась как ребёнок:
наяву... без мужиков...
Час расплаты пробил, Джон! В заключение...
Пардон!
Кто сказать посмеет «баста»? Не найти ли нам фантаста,
чтобы этот беглый план обратил в большой роман:
Есть сюжет, идея — кстати, стиль годится для печати.
Эрудиции хватает — за границей всё бывает.
Что касается науки — многим нынче карты в руки...
В советскую эпоху идеологизированные произведения литературы, в частности, фантастики, затронули и детективный жанр. Славные чекисты, между прочим, умело и успешно пресекали попытки вывоза культурных ценностей из СССР, допустим, похищенных в музеях, за рубеж, и оставляли похитителей что называется, с носом. При этом осведомленность авторов подобных детективных повестей о реалиях жизни в капиталистических странах так же, мягко говоря, оставляла желать лучшего. Это и послужило поводом для мой стихотворной пародии. Кстати, и отечественные оперативники в тех же произведениях порой выглядели карикатурно.
Закончив серию «Бега»
(луга, стога, два сапога),
балет изобразил Дега.
— Эх, сударь, до чего ж нага! —
юлит слуга.
— А ни фига!
В произведеньях нашей школы
натурщицы обычно голы...
Сей диалог переиздал
искусствоведческий журнал.
Картинка нынче в Эрмитаже:
И ню как на нудистском пляже,
а публика в ажиотаже
от колорита в антураже...
Но
каждый божий день чуть свет
на изумительный паркет
ступает подлая нога
того, кто тянется к Дега...
Ну, — спросил майор Ракета, —
что вы скажете на это?..
Достаёт он из кармана
две молекулы урана.
И на них — раствором кап —
отпечатки чьих-то лап.
Махеркакера?!. — Да нет:
у того помягче след.
Какермахера?!. — Навряд:
помер тот лет семь назад.
— Ну так кто? — спросил майор, —
кто за фруктик этот вор?
— Разрешите! Интересно:
что нам, что об нём известно?
— Вот — заметки из газетки —
всё в анкетке спецразведки:
он мастак по женской части,
но искусственной отчасти:
раз Цецилию святую
распилил — и в свой баул.
А Венеру золотую
из Гайд-парка утянул.
По дороге к Роттердаму
на тринадцатое в ночь
из Парижа Нотер-Даму
попытался уволочь.
А теперь подумай сам:
для чего он прибыл к нам?..
Недалёко от площади Мира,
в новом доме напротив кино
есть одна небольшая квартира,
где найдёшь даже ночью вино.
У хозяйки ни мужа, ни брата,
никаких персональных заслуг,
никакого особого блата,
только каждый мужчина ей друг.
Есть друзья у неё в исполкоме,
и в футбольной команде «Спартак»,
и в большом замечательном доме,
где буфет ничего себе так.
Заходили поэты к хозяйке,
космонавты дарили цветы,
иногда она ездила в «Чайке»
и с министром бывала на ты.
А когда атташе Парагвая
ей назначить решил рандеву,
отвечала она не зевая:
подвезите, я близко живу.
Говорил он: мы чудная пара;
парагвайское кофе варил...
Не заметила честная шмара,
как её господин охмурил...
Директор музея — ну что за беда! —
всегда, как на грех, попадал не туда.
Спешит — мимо урны бросает он сор,
стреляет — от хохота давится тир;
он пробует бритву — сгорает мотор,
берёт молоко — получает кефир.
Преследует рок — до предела жесток
того, кто, как евнух, забредший в гарем...
На Запад глядел — попадал на восток,
Смешил анекдотом — и плакал затем...
Но главное —
скверно по части фасада:
всегда выставлял он не тех, кого надо.
Старается — с богом,
а нужно — без бога.
Исходит от пола — велят с потолка.
Его распекают: какого Ван-Гога!
даёшь на века — выставляешь Хмелька..
Ему
до инфаркта четыре шага...
Влетают.
Орут:
«Уутащили Дегаа...»
К столу,
чтобы скорую вызвать себе...
И — снова попутал: попал в КГБ.
Ракета (майор) говорит в телефон
по буквам:
Дык. Ёлка. Гарбуз. Аерон?
Д е - г а? Не слыхал... Да неужто? Мильон?
Позвольте, позвольте, так спёр его —
он!..
Славно дело закипело.
У девицы опыт мал: —
оглянуться не успела,
как майор её прижал.
Ну, гражданка парагвайка,
брось вертеться как юла,
показания давай-ка!
Испугалась. И дала.
— ... Как мужчина мальчик этот...
— Возраст?! —
— Сорок... Пятьдесят...
— Есть особые приметы?!
— Да. Умён. И так богат...
И совсем, совсем не жадный...
— Где он?! Ты — всему виной!
— Он уехал, ненаглядный,
не простился он со мной...
— По картинным галереям
не таскался ли твой сэр?
Не встречался ли с евреем
По прозванию Нахер?
— ... Помню: свёрнутую в трубку
он картину приволок;
если я сняла бы юбку,
тоже вышло бы — будь спок.
— Стой! Снимаем отпечатки.
— Нет на мне. Он не был груб.
И всегда носил перчатки.
Так что — разве ног и губ...
Три года служит на границе
сержант Баракин — «Зоркий глаз».
Здесь контрабанде не пробиться,
как он доказывал не раз.
Чтоб руки воина изъяли
непредусмотренный товар:
«Горилку с перцем» в одеяле,
в перине — тульский самовар.
Он должен быть: и кибернетик,
и политически силён, —
сержант всё держит на примете
и обнаружить может он, —
в часах — картинки женщин голых,
и в голых женщинах — часы.
Он золотишко в ореолах
бросал бесстрастно на весы.
В подкладках зарубежных фраков,
и в том, что плёл магнитофон
он чуял запах Пастернаков,
и всю петрушку эту — вон!..
Когда —
приводят господина
с огромной палкой
в багаже.
(Ну, кто б подумал, что картина
в ту палку спрятана уже?)
Не будь дурак — не подал виду
сержант, что понял: там внутри...
И палку, будто инвалиду
Ткнул господину: «Забери.
Но где, брат, остальные вещи?»
— К чему-с?.. —
таинственно, зловеще
и подло ухмыльнулся гость,
прижав расширенную трость.
И, нагло совершив прыжок,
он взад границу пересёк...
Биржевики и биржевички
спешат на биржу в электричке.
Сегодня там аукцион,
нажива будет как закон.
Какие славные предметы
Толкнут сегодня с молотка:
Кровавый шарф Антуанетты,
Наполеона эполеты,
Шекспира новые сонеты,
из сада Сада два цветка
(сильна садистская рассада —
маркиза славит на века).
Но главным призом и сюрпризом,
гвоздём программы и т. д.
картина будет под девизом:
«Дега. Собрание Т. Д.»
... Две тыщи фунтов! Три. Пятнадцать!
Семнадцать. Двадцать. Шестьдесят
Бум! С королевой состязаться
Пошёл финансовый магнат.
Как обоим не надоело
за тот шедевер торг вести...
И королева аж взопрела.
С магнатом тоже не шути.
Он запросто набавил лишку:
натура барину нужна, —
мощней магнатская сберкнижка,
чем королевская казна...
И — точка. Прекратили пренья.
Кусает локти мелюзга.
В последний раз для обозренья
Велит магнат подать Дега.
Глазеть охота? Ладно, нате
И вспоминайте об магнате...
Дега?!?!?!?!..
Похоже, что не то...
Не в голом виде.
А в халате,
в халате белом на пальто.
И не французская гризетка
под видом развесёлой ню,
а та, с которой пятилетка
растёт и крепнет на корню!
Доярка Глаша Сфонарова,
а рядом с ней полно ведро,
а позади мычит корова,
молочнее, чем у Коро...
Да, как всё это вышло — тайна,
известно стало лишь одно:
сержантБаракин не случайно
брал в «Военторге» полотно.
И не затем майор Ракета
возился с девочкой блажной,
чтобы висел шедевер где-то,
а не в его стране родной...
Не знает вор — куда деваться.
Магнат как голый в варьете.
А зал трясётся от оваций
Доярке Глаше на холсте!..
В восторге такжекоролева:
На деньги те, что сберегла
В харчевню кинулась налево
И там «Столичную» пила...
Примечание к сатирической поэмке
«Шедевер остаётся шедевером».
Что касается терминологии, лексики, эрудиции более или менее высокопоставленных деятелей тогдашней советской эпохи, то недалеко ушли от пародируемого опять же синхронно с теми годами. Пожалуй, следует лишь расшифровать «... выставляешь Хмелька». Михаил Иванович Хмелько одно время даже возглавлял Союз художников Украины, и был автором, должно быть, единственной в мире «живой картины». А именно — полотна, отражающего торжественный момент — вскоре после завершения Отечественной войны товарищ Сталин провозглашает в Кремле тост «За великий русский народ». Внимают ему все тогдашние члены Политбюро ЦК ВКП (б), и не совсем на втором плане представители этого самого народа.
Одна из авторских копий этой картины висела в фойе тогдашнего кинотеатра «Комсомолец Украины» (в помещении бывшего польского театра), а ныне — уже не на улице Свердлова, а по-дореволюционному — Прорезной; и теперь там обосновался Молодёжный театр. Я жил в доме на углу той же улицы и Владимирской, частенько наведывался в кино. И вот, когда после смерти Сталина был ликвидирован Лаврентий Берия, на полотне на его место передвинулся то ли Маленков, то ли Каганович. А затем пришлось убрать и всю «антипартийную» четвёрку, благо, «примкнувшего к ним Шепилова» изначала изображать не было нужды — не дорос до сталинского окружения. Зато до XX Съезда
КПСС нужно было подвинуть Никиту Хрущева поближе к центру, и простой народ просочился в образовавшийся вакуум. Понятно, с воцарением новой партийной верхушки и окончательным развенчанием культа личности этот «шедевер» Хмелька разве что — неизвестно в каком виде — заброшен в бездны музейных запасников. Действительность порой похлеще фантастики...
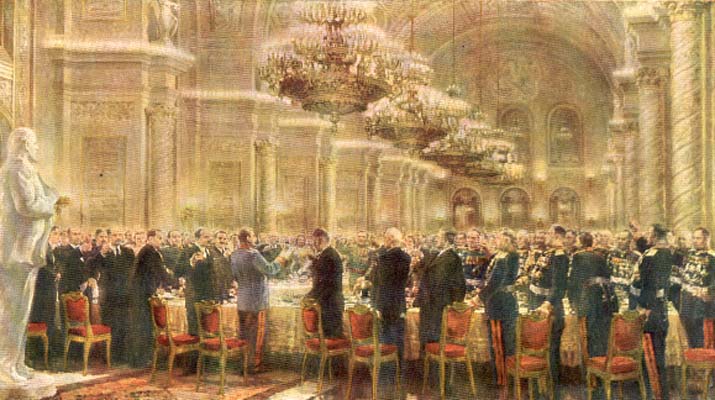
Наверное, легко давалось мне экспромтное сочинение эпиграмм. И на одноклассников, и на студентов и преподавателей института, и на коллег проектантов. Мимолётные, пользовались успехом, даже у юмористов на семинарах эстрадных авторов. Порой спустя годы при встречах с друзьями, знакомыми, эти мои экспромты цитировали, хотя сам я совершенно не помнил. В вышедшей в 90-е годы четвёртой книге Ю.Борева "XX век в преданиях и анекдотах" одна из таких эпиграмм, когда по тогдашним советским традициям служилый народ в рабочее время выводили на улицы, когда страну посещал глава дружественной державы, передавалась из уст в уста,- приведена как безымянная:
Нас рано разбудили
Насера провожать.
Арабы его дети,
Египет его мать.
И как преподаватель в техникуме, рассыпал эпиграммы на учащихся. Одна из них - посвящена Саше Супрун:
Причёски трогательна прядь,
чарует взгляд и голос дивен.
Когда опять поставлю пять,
заметят: да... необъективен.
Дата - 1963 год, а в следующем, 1964, вручила мне Саша, можно считать, письменное объяснение в любви, и вот уже пойдёт 49-ый год нашей без преувеличения счастливой семейной жизни.
Был еврей когда-то - жид,
В наше время он – хасид.
И не Гитлер, а Смирнов
обвинять таких готов:
"… Не могу стерпеть обиды,
что наносят мне хасиды!
Раскусил в конце концов
я – сионских мудрецов.
Вы хасидов не видали? –
присмотритесь в нашем зале.
А выходят в кулуары –
всех скупают за доллары.
Направляюсь в свой буфет:
может там хасидов нет?
Набежали и немало –
жрут украинское сало.
Из сотрудников кабмина
этих – ровно половина.
К президентскому дворцу
через день везут мацу.
А судья – чтоб я так жил –
не усы, а пейсы сбрил.
Заявляют эти лица:
чем вам Умань – не столица?
Втихаря готовят справку –
и Богдана – в переплавку.
А на складах неликвиды
Скупят жадные хасиды.
Да, хасиды тут и там
Жаждут все прибрать к рукам.
Ходят слухи, что хасиды
и на Днепр имеют виды.
По-хасидски столько лет
Обрезают наш бюджет.
Заставляют наш парламент
Соблюдать такой регламент,
Что поведать не судьба,
как идет
моя борьба!"
Сегодня именины,
которым лучше нет:
сегодня для Марины
в шестнадцать лет – букет.
Влетают через дворик
с охапкой алых роз -
отец её - историк
и мать её - завхоз.
Слетаются и гости,
такие, например,
как бывший шулер Костя -
сейчас миллионер.
Друзья отца из Штатов -
Петро и Соломон,
штук восемь депутатов,
и - кто проводит шмон.
Ух, манят и закуски,
и черная икра...
Мариночке - ура!
Но - видно из-под блузки,
что ей рожать пора.
Гадают, между прочим -
кого родится сын,
а вдруг - так будет дочка,
ну, вылитый грузин.
А он – пьет цинандали
Бубнит забавный тост…
Эх. Зря ему не дали
Тянуть кота за хвост.
Он, в общем, против блядства,
но выпивать готов
за всех народов братство
и дружбу всех отцов!
Март 2012 г.