ОТ НКВД ДО СБУ – В МОЕЙ СУДЬБЕ: 70 ЛЕТ
Наверное, очень многие люди – режиссеры, артисты, искусствоведы доныне с интересом читают, изучают не без пользы книгу Константина Станиславского "Моя жизнь в искусстве" – по образцу заглавия которой и я пишу "Моя жизнь под эгидой ведомства", меняющего свою аббревиатуру, не совсем оставляя в стороне, как Алексеев-Станиславский свою личную жизнь, инженерную деятельность и другие факты биографии, так или иначе связанные с заявленной темой. И – каким-то краешком с миром театра вообще и Художественного, в частности. В 30-е годы отец мой учился заочно в ГИТИСе – государственном институте театрального искусства по специальности кинорежиссура, и мои родители посещали спектакли московских театров, в том числе, как рассказывала мама, головокружительные постановки Мейерхольда.
В те годы были ещё живы основатели Художественного театра, и в "Театральном романе" Михаила Булгакова в остроумнейшей гротескной форме просматривается закулисная жизнь этого театра, и впрямь столь притягательного для москвичей и приезжих, с ещё не совсем выветрившимся духом начала века. Чуть ли не дошкольником побывал я с мамой на представлении "Синей птицы" – с тогдашними корифеями в главных ролях, и, должно быть, очарование этой мистической сказки надолго запало в мою душу. И лишь потом я узнал, что первая постановка этой пьесы в России была именно в этом театре в 1908 году, почти сто лет назад; и что автор Морис Метерлинк был ещё жив, когда я уже почувствовал на себе небезвредное внимание того самого учреждения, отнюдь не потустороннее, как у Метерлинка, и о нём, о его взглядах на мир и не драматические произведения, я подробней написал в своём интеллектуальном дневнике.
Передо мной – из архива моего отца – журнал "СССР на стройке" №9 за 1938 год, целиком посвященный юбилею Художественного театра. На фотографии то, о чём Булгаков не смел написать впрямую даже для посмертного романа. Хочу привести полностью подпись под этим фото. "Руководители партии и правительства среди старейших работников МХАТа ("А" – при советской власти "академический") в день 40-летия театра – 27 октября 1938 года. В первом ряду (слева направо): гример Я.И. Гремиславский, заслуженная артистка РСФСР С.В. Халютина, народный артист СССР В.И. Немирович-Данченко (Станиславский скончался в этом году), И.В. Сталин, В.Е.Ворошилов, народный артист СССР И.М. Москвин, В.М. Молотов, Л.М. Каганович, народный артист СССР В.И. Качалов, А.А. Андреев. Во втором ряду: О.А. Мозалевский, народная артистка РСФСР Л.М. Коренева, гример М.А. Гремиславская, заслуженная артистка РСФСР М.П. Николаева, заслуженный деятель искусств РСФСР Б.Л. Израилевский, народный артист СССР Л.М. Леонидов, А.А. Жданов, заслуженный деятель искусств РСФСР Н.А. Подгорный, Н.С. Хрущев, Н.И. Ежов, директор МХАТа Я.И. Боярский, А.И. Микоян, Н.А. Булганин, машинист сцены И.И. Титов".
Все тогда сфотографированные, кроме Ежова, умерли своей смертью, правда, кажется Жданову помогли отправиться на тот свет, и насчёт смерти Сталина доныне не всё ясно. Тогдашние вожди, как на подбор, мягко говоря, ниже среднего роста, но видно, что Ежов на полголовы ниже находящегося рядом Хрущева. Перед войной – Отечественной, даже несколько раньше, расстрелянного Ежова сменил Берия, и массовые репрессии 37-38 годов принято приписывать "ежовщине", в какой-то степени это так, но мне думается, что в своего рода надгосударственную всеохватывающую структуру НКВД превратился и оформился при Лаврентии Павловиче, хотя задатки прорастали ещё из ЧК при Дзержинском и его последователях.
Отголоски того, что происходило в 30-е годы, отрывочно запечатлелись в детской памяти – события в стране, как говорят нынче, резонансные. Конец 1934 года, убийство Кирова. Мне семь лет, но я запомнил, как это всколыхнуло окружающих меня, так же, как запомнил, что в день смерти Горького по шоссе возле дачи, в Подмосковье, шла девушка с траурным флажком, и неподалёку – строительство канала Москва – Волга – строители, массы их – с тачками, наполненными землей; конечно мне не рассказывали – что это за люди. Убийство Кирова – точка отсчёта для окончательной расправы со всеми, кто мешал или мог помешать генеральной линии партии Ленина-Сталина. У меня в руках солидный сборник "Творчество народов СССР", изданный в 1937 году – "под редакцией А.М. Горького (в траурной рамке), Л.Э. Мехлиса". В сборнике, кроме славословия Ленину, Сталину, советской власти, Красной армии, колхозам, анафеме кошмарам царизма – отклики многонационального советского народа на убийство Кирова.
"Слово скорби. Записано со слов Абуталиба Гафурова в селе Кумах Дагестанской АССР. Перевод с лакского". "Эта печальная весть дошла до меня, когда о другом я думал, Мироныч. Стиснув зубы до крови, до боли в висках, я осмотрел своё оружие. Горе мне! Почему меня не было рядом, чтобы остановить пулю злодея?" Затем удрученный Абуталиб вышел из сакли, и увидел птицу, которая "сидела на голой земле, сиротливо нахохлившись". Нетрудно догадаться, что птица скорбела о том же. А что мог сказать тур, к которому тот же житель Дагестана "подошёл близко", отвечая на вопрос: "Что за печаль у тебя, житель вершинных просторов? И тур отвечал мне: В трауре спустился я в тесный овраг".
Спрашивается: стоит ли так наскоро цитировать состряпанные неуклюжие "переводы" на русский язык? Оказывается, курд Ахмет Мирази сразу сообразил, задолго до того, как на пресловутом "процессе" середины 30-х выяснилось, кто виноват в этой трагедии "Товарищ Сергей, спокойно спи! Неотомщенным ты не останешься, а те, кто тебя убили, пусть знают: в живых не будут!.. Проклятье роду изменников – Зиновьеву, Николаеву (действительно, стрелявшего в Кирова Николаева, прикончили сразу)… Товарища нашего отняли, белым сердца порадовали". Тираж сборника 115 тысяч экземпляров. Можно предположить, что хотя бы четверть тиража нашла своих читателей – в те годы, надо отдать справедливость, число читающих, притом по-русски, значительно возросло в стране по сравнению с началом века в царской России. Кто знает, какой процент читателей тогда усомнился в том, что представители ряда национальностей Советской страны от души восхваляют Октябрьскую революцию, героев гражданской войны, официальных вождей, колхозный строй. Что греха таить – и подавляющая часть интеллигенции была, в общем, настроена просоветски ( я называю такой феномен подсознательным конформизмом); да и многие западные деятели культуры, например, Фейхтвангер поддались воздействию официальной пропаганды, смутно представляя, что творится за "железным занавесом".
Были возмущенные голоса – внутри страны очень приглушенные и редкие. Как и в Х?Х веке. "И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ". Не могу не процитировать и европейского литератора, так же, как Фейхтвангер немецкого еврея, так же вынужденного эмигрировать, и чья жизнь прошла на век раньше, чем автора книги "Москва. 1938 год", – Генриха Гейне, из его прозаического произведения "Признания": "О, у народа, этого бедного короля в лохмотьях, нашлись льстецы, которые ещё бесстыднее, чем придворные в Византии или в Версале, стучат по его голове своими кадилами. Эти придворные лакеи народа постоянно восхваляют его совершенства и добродетели и вдохновенно восклицают: "Как прекрасен народ! Как добр народ! Как умен народ!" – Нет, вы лжете…
Народ, который так прославляют за доброту, вовсе не добр, он иногда бывает так же зол, как и некоторые другие властелины… И вовсе не очень умён народ; он, может быть, даже глупее других, он почти так же скотски глуп, как его любимцы. Свою любовь и доверие он дарит только тем, кто говорит или орет на жаргоне его страсти, а ненавидит всякого честного человека, говорящего с ним языком разума, с целью просветить и облагородить его. Так оно было в Париже, так было в Иерусалиме. Предоставьте народу выбор между праведнейшими из праведников и отвратительнейшим уличным разбойником, будьте уверены он закричит: "Мы хотим Варраву! Да здравствует Варрава!"
Гейне, однако, надеется, что такое состояние, уровень самостоятельного мышления, нравственности обусловлен бедностью и необразованностью. Если постараться избавить народ от того или другого, "Тогда каждый из народа будет в состоянии приобрести все, какие ему угодно, знания, тогда вы вскоре увидите интеллигентный народ". Рассуждения о том, насколько рационально или реалистично это искреннее пожелание Генриха Гейне и французскому, и немецкому, и еврейскому народу, судя по тому, что происходило в Европе в ХХ веке, или в Советском Союзе в результате "образованщины" по Солженицыну – могут завести весьма далеко, по крайней мере, от локальной темы этой моей статьи. Тем более очень по-разному проявлялся характер того или иного народа в разных державах, в разные исторические эпохи.
И тоталитарную сталинскую мечту, чтобы все советские граждане, всего разношерстного многомиллионного населения СССР, подобно – по его выражению "винтикам" – безоговорочно крутились в нужную для его разумения сторону, достаточно интенсивно, с заменой неустойчивых, – требовалась достаточно мощная и надёжная система "шестерёнок". О характере и деятельности этих "шестерёнок – НКВД, КГБ, взаимодействии с правящим режимом на разных этапах советской истории глубоко, со знанием дела, обстоятельно рассказывается в части 5 "Единство и противоречия в треугольнике диктатуры (партия, полиция, армия)" книги А.Г. Авторханова "Технология власти".
Когда-нибудь, трудно сказать через сколько лет – десять, двадцать – по сохранившимся в архивах и некоторых из них рассекреченных свидетельств тех, кто пережил это время, будет написана подробная и беспристрастная история Украины с 1991 года, когда она объявилась независимой. И в этой истории своё место найдёт ведомство под аббревиатурой СБУ – чем и как занимались сотни или тысячи её сотрудников при той или иной конъюнктуре. Правда, отрывочные публикации, сведенья от конкурирующих властных группировок, просачивающаяся информация – уже не та степень секретности, как в былом – позволяют отчасти судить о том, кому или чему служат части структур этого ведомства…
История с заглавной буквы всё-таки видится каждому сквозь призму пережитого, начиная с детства, и коррекция по-настоящему осознанного может приблизить к объективной оценке. И пускай выборочные биографические заметки порой попутно сопровождаются соображениями человека, умудренного к девятому десятку прожитых лет и своим жизненным опытом, и многим из прочитанного и услышанного.
Итак, в 1937 году я, десятилетний школьник, проживал с родителями в построенном за несколько лет до этого новом семиэтажном доме в центре Москвы, у Садового кольца – части его Садово-Каретной. В те годы новые дома в Москве строились почти исключительно для начальства, подобно знаменитому "Дому на набережной"; и этот дом на улице Каляевской, названной так в честь борца против самодержавия Каляева, ныне Дмитровской, строился для ответственных работников Наркоминдела. Отец мой был рядовым служащим Наркомвнешторга, и как юрист, с дипломом Ленинградского, вернее Петроградского ещё университета, к тому же причастный к искусству, живописи и получающий второе высшее образование в ГИТИСе, как режиссер кино, в командировках в Среднюю Азию отбирал рукотворные ковры для продажи за рубеж, получения валюты, понятно государством.
Разумеется, этого было недостаточно для получения двухкомнатной квартиры в доме, куда поселялись, по выражению тогдашнего времени, "шишки" – например, в квартире через стенку – семья торгпреда в Германии Магалифа, ниже этажом – торгпреда в Иране Тамарина – фамилия – дореволюционный партийный псевдоним – внук его Андрей – первый друг моего раннего детства. В памяти сохранилось: занятные механические игрушки из Берлина у сына нашего соседа и почтовые марки Персии – лишь в 1935 году страна стала именоваться Иран. Но я не пояснил – каким образом квартиру в этом доме получила наша семья. Частично этот дом был прообразом будущих, через десятилетия кооперативов, то есть претенденты на получение квартир в этом доме не на должном уровне "ответственных служащих" вносили свой денежный пай – в этом помогли родители моей мамы и её сестра с мужем из Киева. Они же в 1924-25 годах приобрели для молодоженов, отучившихся в Петрограде-Ленинграде – жильё в Москве – в особнячке на улице Троицкой, где до этого также комнату обрела еще одна сестра мамы тётя Роза; а наша семья вселилась в комнатку-закоулок без окон, где я пребывал не один год после рождения. И в этой-то комнате временно поселился архитектор строящегося дома, помнится, по фамилии Маркузо – пока мы все жили в комнате моей тёти, и это дополнительно позволило рассчитывать на получение роскошной по тем временам для обычных граждан отдельной двухкомнатной квартиры, опять же по тогдашнему выражению, "со всеми удобствами".
Как-то группе моих одноклассников устроили своего рода экскурсию в наше жильё, и дети из тогдашних "пролетарских семей" взирали на чудеса: отдельную квартиру, в которую доставляет лифт; ванную комнату с газовой колонкой и газовую плиту, паркет, балкон… Но – начались знаменитые судебные процессы с разоблачением ярых "врагов народа" и с репрессивными метастазами по всему Советскому союзу. И понятно тех сотрудников Наркоминдела, которые пребывали за рубежом, общались с представителями капиталистического мира, а то и тайно с эмигрантами, просто было обвинить в том, что они сделались шпионами – германскими, японскими, польскими. После ареста Магалифа семью его сослали – на Урал или в Сибирь, а семья исчезнувшего Тамарина занимала уже лишь две комнаты в четырехкомнатной квартире. В значительной части из сотен квартир большого по занимаемой площади дома в те годы происходило аналогичное.
С балкона я наблюдал колонны демонстрантов в дни первого мая и седьмого ноября – красовались портреты тогдашних "вождей" и транспаранты с лозунгами, обличающими "врагов народа", что справедливо оказались в "ежовых рукавицах" – русская пословица ассоциировалась с фамилией Николая Ежова – генерального комиссара, наркома внутренних дел. Впоследствии публиковались данные о масштабах захваченных намертво теми "ежовыми рукавицами", в подавляющем большинстве никаких не врагов не только народа, но и советской власти, наоборот, служащих ей, что называется, верой и правдой. Моя двоюродная сестра одногодка Клара Левтова, прислала из Канады, где теперь живёт, воспоминания о тех годах, когда арестовали её отца, крупного военачальника – тогда "ромбы" на петлицах соответствовали позднейшим "звёздам" на генеральских погонах; а когда объявили, что он осужден на "десять лет без права переписки" – намного позже прояснилось, что это значит – расстрел, – то подозрения и соответствующие невзгоды ещё не один год преследовали сестру моего отца, кстати, первую на Украине женщину – кандидата математических наук.
В одной из бесед с писателем Феликсом Чуевым почётный пенсионер, Вячеслав Молотов, вспоминая те годы, невозмутимо заметил "лес рубят – щепки летят". Думаю, что тогда мой отец, беспартийный по счастью показался слишком мелкой и незаметной "щепкой" и потому не "отлетел" подальше. Забегая вперёд, замечу, что последователи "ежовых рукавиц" ещё долго, а, может, и доныне не только присматриваются и вроде бы к тем потенциальным "щепкам", что каким-то образом неугодны власть имущим, показным рвением оправдывая свои привилегии. Зацепившись за исключительное слово предыдущей фразы, хочу отметить, что взамен, в основном, бесповоротно захваченных "ежовыми рукавицами", власть имущие старались одаривать своими благодеяниями тех, которые послушно, трезво оценив ситуацию, станут, как говорится, верой и правдой служить "партии и правительству".
И семьи "номенклатурных" вселялись в освобождающиеся в нашем доме квартиры и комнаты. Пытаюсь припомнить лично, хотя в новой литературе и кинофильмах воспроизводится – как это воспринималось тогда психологически. Разными людьми по-разному; немногие до конца понимали истинную направленность и цель этой дьявольской акции: вытравить из сознания старшего, тем более, младшего поколений действительные реалии подготовки и осуществления Октябрьской революции, ведения гражданской войны, роли в этих событиях "ленинской гвардии", выдающихся военачальников, при одновременном возвеличивании подвигов Сталина и его покорного окружения. Но и у тех немногих, кто ясно понимал подоплёку творящегося, и у простых обывателей вырабатывалась, если можно так выразиться, "презумпция виновности", – сопровождаемая страхом, что не только в поступках и беседах с близкими, но и в мыслях сомневаешься в абсолютной верности совершающегося, пускай с оправдательной оговоркой – во имя торжества коммунизма, и в таком случае простительны определённые "перегибы"…
И никаким образом не скроешься "от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей". Так было при господстве инквизиции, гестапо или НКВД – разве можно усомниться в том, что Солнце вращается вокруг Земли, что нельзя не донести на скрывающегося еврея и не проклинать "иудушку Троцкого". И спрятаться можно было разве что в различных ипостасях и степенях конформизма. Можно сказать – пассивного или активного – от, допустим, цитирования в диссертациях по химии подходящих высказываний Энгельса до ничем не оправданных и бездоказательных доносов на сослуживцев. Полагаю, что этот вирус латентного или захватывающего душу конформизма присутствует, как-то социально-генетически переданный, и в поколениях моих сверстников, и тех, что помоложе, и, кажется или наверняка во многом, у воспитанных уже в постсоветскую эпоху.
Нет, синдром такого самоощущения отнюдь не только в гипотетической генетической памяти, но государственная машина, часть которой, - хорошо информируемые – законно и незаконно – спецслужбы – может, что называется, прижать кого угодно, и миллиардные состояния не гарантируют безопасности, и этот дамоклов меч заставляет сознательно или подсознательно искать по нынешнему жаргонному выражению "крышу" – во властных структурах, политическую, идеологическую, криминальную.
Однако, надо отдать справедливость, насколько я могу судить по воспоминаниям детства, по крайней мере до войны, не было явственного разделения общества по национальному или даже социальным признакам. Даже китаец в нашем классе, помню его фамилию Юй Чжи Цзян – был для нас просто Володя, и чисто еврейские фамилии одноклассников никак не влияли на взаимоотношения с другими ребятами. И когда освободившуюся квартиру в нашем доме занял вновь назначенный нарком путей сообщения Бакулин, к его сыну по имени Горн, моему однокласснику, я приходил в гости запросто так же, как вероятно совсем "пролетарские дети". Конечно, фенотип тех, чьи родители были интеллигентами, относительно образованными людьми – так верней – хотя бы в первом поколении имели лучшие, так сказать, культурные стартовые возможности для своего духовного развития и успехов в будущей профессиональной деятельности. Хотя – подумалось – в ту обновленную, без моральных оценок, переломную эпоху – первенствовал как раз генотип. Способности, талант всячески поощрялись, и это давало свои плоды, пожалуй, во всех областях науки, искусства, литературы.
Водораздел формирующегося общества шел по критерию, я бы сказал, религиозному, в смысле обобщенно – коммунистическому. Близкое к христианскому "человек человеку брат", при социальной справедливости без вопиющего неравенства богатых и бедных, и не такой уж далёкой перспективой построение "царства божьего на земле", сиречь коммунизма, через уже во всю воплощаемый социализм. Небольшое отступление относительно феномена веры, о чём я размышлял в своём "интеллектуальном дневнике". Мне доводилось беседовать с разного рода верующими: в Бога, представляемого религиями, или конфессиями, к которым они формально принадлежат; в величие своей гордой и независимой державы и отдельных её руководителей – мудрых и высоконравственных; в преимущества капитализма или социализма; не говоря уже о вере в действенность примет; в замысловатые визиты инопланетян; в сатанинские сущности, впрочем, скрываемые – людей той или иной национальности…
И, когда я приставал к верующим с дотошными вопросами – во что именно они верят и почему так, а не иначе, и каковы доказательства, что их вера истинна, то в ответ, если слышалось раздражение или невнятные доводы в пользу своей веры, то я понимал, что не о чем говорить, но порой меня опережали, в духе: не твоего, не вашего ума дело – для того, чтобы дошло – нужен другой ум, другое сердце, другая душа. Что попишешь – до меня и впрямь вряд ли дойдут как следует, скажем, формулы квантовой механики или тонкости исполнения симфонии данным оркестром. Может быть, в какой-то степени вопрос: почему веришь в… – сродни вопросу: почему ты любишь её или его?
Тем не менее разные ипостаси веры во что бы то ни было входят в сознание, в душу, если угодно – в силу традиций – этнических, семейных, под влиянием признанных авторитетов и безусловно в зависимости от характера, наклонностей и даже сложившихся обстоятельств. Единственно, при этом сознательно, а скорее подсознательно заглушается здоровый скептицизм. Конечно, всё это достаточно индивидуально и вследствие колоссального разброса личностей по ряду психических, интеллектуальных, эмоциональных параметров, уклонения от среднего в данной среде могут быть весьма радикальны.
Теперь о послереволюционной вере той общности, что именовалась советским народом, – в аллегорически сжатом виде. Трудно сказать, что вынес Джугашвили из ученья в духовной семинарии, но умело была выстроена догма: условный бог-отец – Ленин, бог-сын – Сталин, а святые духи – Маркс и Энгельс. Верить им следует абсолютно и не поддаваться проискам Дьявола. Был во время революции такой вроде бы апостол – "иудушка Троцкий" и его злобные и коварные приспешники, а также "уклонисты" – еретики. Но принеся "не мир, а меч" для неверных, и вручив этот меч карательным органам, высший судия расчищает путь к победе коммунизма на всей планете…
Подражая заголовкам "Опытов" Монтеля – "О скорби", "О праздности", "О предсказаниях", "О страхе", "О педантизме", "О молитвах" и так далее, позволил себе озаглавить рассуждения, предшествующие воспоминаниям о тех эпизодах в моей жизни, которым теперь, на старости лет, проанализировав, многое узнав и поняв, могу дать оценку. И то, что тогда воспринималось с недоумением и горечью, нынче – с иронией, более того, с мыслью, будь я верующим в то, что всё это направлялось свыше, то есть не высокими державными, а божественными управляющими судьбами людей, – пришёл бы к выводу: делалось со мной для того, чтобы жизнь моя в итоге стала наиболее полноценной, содержательной и, должно быть, в высоком смысле – счастливой.
А теперь, по привычке, следуя стилю моего мышления – от общего к частному, от происхождения этого человеческого феномена. В слове "обвинение" корень – "вина" – по словарю Даля "начало, причина, источник, повод, предлог". Многозначно, запомним "… повод, предлог". Примеры употребления слова: "В чём искать вину общему искажению нравственности" – это, кстати, в России почти полтора века назад. Далее: "Провинность, проступок, преступление, прегрешение, грех (в значении проступка), всякий недозволенный, предосудительный поступок". Характерные примеры "Всякая вина виновата" и "Не всякая вина виноватые", "Кто Богу не грешен, царю не виноват", "Без вины виноват" – приходит на ум пьеса Островского с таким названием.
Феномен вины – исключительная принадлежность рода человеческого; а в генетических программах существования "братьев меньших" таковое излишне? Как понимать по их поведению в иных случаях, как бы признание того, что нашкодили – у собаки или кошки, или это проявление условного рефлекса в ожидании заслуженного наказания и попытка смягчить его, демонстрируя "раскаянье"? А может и впрямь за многие века общения с человеком переняли от него что-то полезное для бытия? Впрочем, так можно договориться до того, что и у кота-пакостника есть совесть, хотя – пускай философы и социологи решают или гадают – каково происхождение и целесообразность этой нравственной категории; и легко ли определить её наличие в душе ближнего, – политики не в счёт. Но у нас пойдёт речь о другом – о праве одного человека обвинять другого, других. Начать, пожалуй, с того, что это право, как доказывает история человечества, бывала в основном, так сказать, для "внутреннего употребления", для своих – в плане этническом, религиозном, государственном, семейном. Что же касается нашествий неприятелей-захватчиков, или напротив завоеванных, пленников, то обвинить их можно было в лучшем случае в нарушении договоров или в недостаточной покорности.
В зарождающихся человеческих сообществах для оптимального их выживания и продолжения рода, баланса между индивидуально-гипертрофированным "я", проявляющимся у осознавшего бренность с одной стороны и личными возможностями с другой – гомо, тем более гомо сапиенс – и общественно-этнической группой, в которую он входил, как правило, вероятно эмпирически, интуитивно устанавливались обязательные для членов этого сообщества законы, писаные и неписаные, с определённой регламентацией, различиями для занимающих определённое положение. В связи с последним, с заключительной частью предыдущей фразы, весьма существенно: если не "что" – добропорядочность, совесть, боязнь морального осуждения окружающими, страх наказания удерживали от нарушения законов, то уже "кто" был вправе судить – нарушен ли закон данным человеком, и что из этого следует?
Чудесный образ совершенного применения высшего гуманитарного закона, так сказать, теоретически обоснован и освящен христианской религией. По тому же словарю Даля: "Страшный суд, всемирный, ожидаемый во второе пришествие Господа". Полная информированность о хороших и дурных делах и помыслах на протяжении жизни, включая раскаянье за совершенные грехи – склоняют чашу весов высшего правосудия со стрелкой, как у меня сейчас перед глазами – весов, изготовленных ещё в позапрошлом веке, на которых взвешивали меня – младенца – с разбивкой ещё на фунты, – стрелкой – неукоснительно указывающей куда отправить душу усопшего – в рай или в ад. Утешительное в том же словаре Даля "Никому не ведом час страшного суда". Но когда речь идёт о реальном судочинстве, в торжество справедливости как-то не очень верится.
Продолжим приводить примеры суждений русского народа, относительно суда, судей, справедливости. "Постыжает Бог суды человеческие", "Судья в суде, что рыба в пруде", "Суд по форме – судей прокормит", "Где суд, там и суть (сутяжничество)", "В суд ногой, в карман рукой", "Где суд, там и неправда" – в устах одного из героев Льва Толстого. Приводимые пословицы приложимы в основном к тем тяжбам, когда судятся Иван Иванович Довгочхун с Иваном Никифоровичем Перерепенко или богатый с бедным, и всё могут решить полученные судьями подношения. Несколько иного плана суды, на которых рассматривается преступление: убийство, разбой, кража, в истории разных народов, да и на Востоке – то, что подходит под определение "прелюбодеяние".
Впрочем, скажем, сегодня на Украине и категория "преступление", шире – нарушение закона, Уголовного, Гражданского, Административного кодексов со стороны, опять же шире – правоохранительных органов, из тех же меркантильных или в угоду высокому начальству соображений – оправдать или выпустить на поруки даже убийцу, загнать за решетку невиновного, нагло отобрать собственность – квартиру или завод, уволить с занимаемой должности, но при этом – хочу особо подчеркнуть – поскольку всё-таки любое такое неправедное решение полагается юридическое обоснование – обвинительное, оправдательное, и у поднаторевших на этом поприще, живо штампуется ссылка на те или другие статьи кодексов.
Надо сказать, что человечество накопило богатый опыт вынесения суровых приговоров по усмотрению власть имущих, религиозных авторитетов. Осуждение тех, кто (по представлению управляющих в данный период законно от имени небожителей, Бога) каким-то образом в поступках или высказываниях нарушает освященные свыше каноны земного бытия, действовало на протяжении веков, хотя бы на примерах судеб Сократа, Галилея, Джордано Бруно, Варфоломеевской ночи, под знаменем "Молота ведьм", при еврейских погромах, гонениях на признаваемых еретиками в России, нынешних кровавых разборках между исламистами – шиитами и суннитами, католиками и протестантами в Ирландии, даже представителями различных течений в иудаизме или враждебных друг другу христианских конфессий сегодня на Украине. При этом нельзя не отметить, что Восток, точнее восточная, южная, юго-восточная Азия, народы населяющие эти земли в этом смысле гораздо толерантнее.
Позвольте, – после предыдущего предложения уместны возражения: а как же "культурная революция" в Китае при Мао, война во Вьетнаме, дикое и зверское варварство полпотовцев в Камбодже? Отвечу: место религии заняла идеология, вроде бы марксизма-ленинизма, и столь же нетерпимая, нередко в ещё худших и более масштабных проявлениях, чем воинствующая религиозная догматика. После Октябрьской революции в России "контру" можно было расстреливать по официальной формулировке "без суда и следствия". Репрессивная логика была выпестована веками блюстителями своей власти не только над душами по праву единственной правоты – истинных служителей Бога или последователей и воплотителей "единственно верного учения". И карать за отступничество от строжайше установленного следовало – кротких и беззащитных христиан; забитых женщин, заподозренных в связях с "нечистой силой"; вольномыслящих интеллигентов, непокорных крестьян. При этом наверное ни столпы инквизиции, ни "революционные тройки", выносящие приговоры, не слишком утруждались поисками доказательств грехов обвиняемых.
Я вспоминал, что в годы известных "процессов" 30-х годов, будучи учеником младших классов школы, по-своему воспринимал происходящее. "По-своему" – наверное, как и подавляющее большинство советского народа, поскольку, как я понял позже, родители опасались откровенничать со мной – и чтобы я воспитывался в ладах с властями, какими бы они ни были – отчасти еврейский местечковый принцип; и – не исключено, чтобы в кругу товарищей не сболтнул лишнего – и это по налаженной цепочке не передалось "куда следует", дабы там доискивалось – откуда просачивается крамола. А следовало на митингах и в кругах друзей, трезвыми или под хмелём возглашать вслух и про себя: ага, попались наконец, пойманы славными чекистами – все эти троцкисты, двурушники, шпионы, диверсанты, что подло стремились сорвать победное шествие строителей коммунизма к светлому будущему…
Помнится, группа активных комсомольцев обратилась в ЦК ВКП(б) с просьбой – доверить им собственноручно расстрелять "врагов народа", и предполагаю, что это был искренний порыв. А вообще-то история, в том числе новейший её период, и очень показателен пример сегодняшней, ХХ? века, 2007 года Украины – насколько просто натравить, науськать население, определённую часть – на "врагов" – будь то даже единоплеменники, единоверцы, но ставшие "неверными" в том или другом смысле, и особых аргументов и доказательств в этих случаях, увы, не требуется. И после войны суровый штамп "изменник родины" для возвращенного на родину военнопленного принимался без лишних рассуждений, как и "безродный космополит" для "лиц еврейской национальности".
Но на подходе к хрущевско-брежневской эпохе и при её расцвете стиль обвинений, средства уличения обвиняемых и подозреваемых по возможности абстрагируется от сугубо политической окраски, уже нет загодя "врагов народа", но идёт борьба с теми, кто нарушает "социалистическую законность". И всё реже КГБ действует открыто, от своего имени, когда "антисоветчик" уж слишком выделяется именно, как таковой, бросает открытый вызов существующему строю, советской власти. Однако явных процессов такого рода сравнительно немного.
Декорум послесталинской демократии и законности вынудил КГБ действовать преимущественно закулисно, рассчитываясь с неугодными режиму, что называется, чужими руками – по подсказкам – в чём данный гражданин проштрафился или подозрителен, и что с ним делать. Надо отдать должное – руководители учреждений, предприятий, творческих союзов с помощью отделов кадров, спецотделов, доверенных особ отлично усваивали и эти свои обязанности. Проще всего, конечно, когда за дело бралась милиция. Этим ничего не стоило поймать на "нарушении общественного порядка", "мелком хулиганстве", "торговле валютой", "хранении в квартире наркотиков" – при обыске по наводке бдительного соседа, а то и распространении запрещенной, контрабандной литературы, самиздата, и тому подобное.
Переходя, наконец, к эпизодам моей жизни, связанным с указаниями или сигналами из КГБ, сразу замечу, что милиция, вернее сотрудники аппарата МВД, не были задействованы в акциях, которые в те года окрестили "внесудебными", то есть даже, когда дело доводилось до суда, обвинения бывали явно подтасованными, и судьи на это, как полагалось, смотрели сквозь пальцы. Разве что придётся вспомнить то, что относилось к компетенции ОВИРа – в то время одного из подразделений МВД. Поскольку цель этого повествования состоит вовсе не в том, чтобы выставить себя в чьих-то глазах, как говорится, "жертвой режима", правда, кто из граждан моего поколения, а возможно и последующих, снова-таки по стандартному выражению "по большому счету" в той или иной степени был такой "жертвой", несмотря на вроде бы вполне благополучную судьбу, – в первую очередь мемуарный жанр позволяет рассказать по словам поэта "о времени и о себе", в данном изложении минувшего, может быть, я больше именно "о себе", и отчасти о некоторых людях в контексте заявленной темы. И через это, спустя много лет, надеюсь, отстраненно-объективное, допустим, для читателя ХХ? века вероятно просматриваются и черты ушедшей эпохи, ушедшей хронологически, но не из продолжающего бытия народа.
Вновь кидая ретроспективный взгляд на "дела давно минувших дней", но отнюдь не "преданья", задаюсь вопросом: с какого возраста я мог оказаться объектом внимания со стороны КГБ? Наверное, на страницах какой-либо саркастической антиутопии определяется, что в некоем царстве-государстве тотальный контроль за гражданином осуществляется буквально с момента рождения. Не исключаю, что компьютеризация позволяет осуществлять подобное и в так называемых демократических государствах, наряду со сведеньями об эмигрантах. Правда, можно усомниться в достаточной эффективности такого рода системы, включающей широкую сеть агентов-информаторов – для прослеживания и предотвращения преступлений, в том числе опасных для государства – в силу бюрократической изворотливости, прежде всего, знающей, как угодить доверчивому и занятому своей политикой начальству, и гений Жозефа Фуше, дьявольски-проницательный – также скорее исключение.
Допускаю, однако, что с середины 30-х годов в СССР своего рода досье заводилось едва ли не на всех родственников репрессированных – от мала до велика и их, по сведеньям НКВД, остающихся на свободе близких знакомых – и на случай надобности напустить очередную волну страха и покорности режиму, и чтобы заартачившихся держать "на крючке", что в любой момент поможет выдернуть, как рыбку из речки. Казалось бы, когда после войны в Киев возвратились моя тётя, прошедшая всю войну майор-военврач, и её муж (о нём отдельно и подробно), и я после учёбы в Московском институте стали и сплавов приехал к ним в Киев в начале 1946 года – моя мама, ещё одна тётя – мамина сестра, бабушка и дедушка возвратились в Киев из эвакуации на Алтае – в Бийске позже, так вот когда я, восемнадцатилетний, продолжал учёбу в Киевском технологическом институте лёгкой промышленности, поводов для того, чтобы я попал в поле зрения НКВД вроде бы не должно было быть.
Более того – у моей мамы и у меня никак не должно было возникать недоброжелательности к НКВД, вернее, людям оттуда. Объяснюсь. Когда, примерно в 1939 году, мама моя обоснованно решила, что сохранение семьи уже невозможно – здесь не место уделять этому больше места, основной разговор не об этом, просто нельзя не пояснить какие-то факты из моей биографии – итак, мама со своей бездетной сестрой – тётей Розой – решила, обменяв часть квартиры, переехать в Киев, где с 20-х годов жили её сестра – о ней выше упоминалось – тётя Соня, с мужем Нахманом и с моими бабушкой и дедушкой. Взамен жилплощади в Москве в Киеве была выменяна трёхкомнатная квартира на верху улицы Энгельса, до революции и ныне – Лютеранской.
И я продолжал учёбу в близлежащей школе №51, а моя мама, как учительница начальных классов, там же преподавала. В эти годы центральная часть Печерска превращалась, можно сказать, в "правительственную". Через двор от нашего дома завершалось сооружение капитального здания штаба Киевского военного округа (позднее ЦК КПУ, с 1991-го администрации, секретариата Президента Украины); также неподалеку Совета Министров изначала предназначено для воцарения там республиканского НКВД – как филиала того, что в Москве на Лубянке; и здания Верховного Совета УССР, а также ряда зданий, характеризуемых на нынешнем рынке вторичного жилья, как "сталинки" – с просторными, понятно, отдельными квартирами, как и тот, в который я вселился дошкольником в Москве – "со всеми удобствами" для – опять же по тогдашнему лексикону – ответственных работников, среди которых изрядную долю составляли сотрудники НКВД.
В этой школе до войны учились – Рада Хрущева, дочери Георгия Жукова, Ватутина, дети высших чинов украинского НКВД. И, как мне представляется, в ту пору, а, может, во все смутные времена на свете, существовали – беру взаймы у фантастов, но в ином понимании – параллельные миры. Как особенно прочувствовано в "Войне и мире", и, пожалуй, в "Докторе Живаго". Мир истории – Наполеон, нашествие на Европу, Россию, придворные в Петербурге, Бородино на одной из страниц истории России и Франции, послереволюционное ожесточение и хаос в стране и в душах, гражданская война, и – жизнь, повседневная, ужасная и благословенная, как в правдивых романах о войнах ХХ века, о самой свирепой и беспощадной на наших землях после 1941-го, жизнь, в которой доведенные до пределов любовь и озлобление, предательство и голод, мужество и прозрение.
Может быть, в довоенные годы ещё не вызрел обособленный "новый класс", номенклатура, элита по-нынешнему, и не такие уж значительные привилегии не давали повода для отчуждения от простого люда. Каждый делал своё дело под эгидой построения социализма – кто работал на заводе, кто в колхозе, кто учил детей, кто с головой уходил в любимую науку, кто писал патриотические стихи, кто боролся с врагами народа, кто попутно рисовал натюрморты, кто рвался в море хоть матросом… Но – так же, как в Москве такая, если угодно, демократичность – положение родителей было вроде на втором плане – определяла атмосферу тогдашней жизни.
Разве что один микроэпизод запомнился мне, потому что показался странным. Один из одноклассников, троечник – но не по шкале успеваемости выстраивалось уважение в этом коллективе – так сказать – синонимический троечник – как-то высказался мне: "Вот мой отец – в НКВД – не помню старший лейтенант или майор был назван – а твой – неизвестно кто". Но подобное было исключением. Так же и очень высокопоставленные родители учеников моей мамы в общении с ней этого никак не подчёркивали, и мама никоим образом не делала поблажки их отпрыскам. Впрочем, накануне войны массовые репрессии уже сделали своё дело, и за "органами" оставалась функция "всевидящего глаза и всеслышащих ушей", разве что на Западной Украине продолжались жестокие и всеохватывающие "зачистки".
Спустя неделю после начала войны - 22-го июня 1941 года - позвонил отец ученицы начальных классов Нины Шкляровой, наверное, уважительно относящийся к учительнице его дочки – моей маме, и предложил эвакуироваться из Киева в эшелоне НКВД, кажется, в самом начале июля, потому что речь Сталина 3-го июля слушали в поезде, по пути на Урал. Через 66 лет, две трети века, думаю: почему тогда, в самом начале войны украинское руководство НКВД сочло необходимым – отправить семьи глубоко в тыл? Ведь ещё чуть ли не в августе я читал в Челябинске в "Правде": "Киев был, есть и будет советским!", и военачальники выполняли категорический приказ Верховного: Не сдавать Киев ни в коем случае, что привело к неоправданным потерям и страшному стратегическому просчёту.
Приписать ли эпизод более чем своевременной отправки семей в тыл страны особой информированности и аналитической прозорливости тогдашних руководителей этого ведомства? Правда, отправлялись в эвакуацию и предприятия, и организации, в том числе творческие – но попозже, и даже евреи, желающие и понимающие – что их ждёт в случае прихода армии Гитлера. Мне представляется, что срабатывал инстинкт самосохранения. У "чекистов" – уроки расправ с неугодными при их непосредственном участии позволили мыслящим и дальновидным сделать выводы, так же, как таким же евреям из многовековой истории народа. И последующие десятилетия подтверждают и живучесть наследников тогдашних нквдешников, и потомков того поколения евреев.
Поскольку лейтмотив этого повествования – о роли НКВД – КГБ в моей судьбе, то естественно в этой связи следует привлечь и сопровождающее личное, прежде всего – хотя бы вкратце о моих родных, и по ходу повествования людях, так или иначе причастных к заявленной теме. Начну с того, что несколько месяцев назад моя двоюродная сестра Клара Левтова, дочь сестры моего отца, она старше меня на полгода, уже ряд лет живёт с семьей в Канаде, до того в Москве, где я с женой и детьми, навещая Москву, бывал в их доме в 80-х годах, итак Клара передала электронной почтой свои биографические воспоминания. Вскользь об этом упоминал, теперь подробней. Её отец, ближайший сподвижник героя Гражданской войны, военачальника Ионы Якира был арестован в 37-ом и "приговорен на 10 лет заключения без права переписки" – иезуитская формулировка для семей безотлагательно расстрелянных. В своём повествовании Клара вспоминает об отношении любого начальства к "Чсир" – членам семьи изменников родины. И, вместе с тем, о людях, не словом, а делом помогавшим жене и дочери репрессированного, несмотря на то, что в те годы это могло навлечь подозрение в пособничестве с далеко идущими последствиями.
По примеру своей двоюродной сестры я было начал писать и свои воспоминания, и возможно частично в том, что касается родственников и фактов моей биографии повторюсь – не страшно, пишу, как говорится, для души, и послужит ли написанное одним из документальных свидетельств бытия ХХ века, отдаю себе отчет – из далеко не самых ярких, скорее заурядных, и возникнет ли когда-либо интерес у моих детей, внука или внуков ознакомиться с этим – меня не так уж заботит. Но, как бы то ни было, заявленная ранее и очень интересующая меня проблема "человек и эпоха", личность и окружение с детства – должна и на этих страницах прозвучать.
Как-то в своих писаниях я акцентировал внимание на пластичности человеческой психики. Если для собаки или кошки многие поколения генетически подготовили любого щенка или котёнка к неконфликтному пребыванию, лучше сказать – проживанию в доме человека, и у одичавших сохраняется многое, несмотря на "зов предков" как у кошечки, сыгравшей столь мистико-драматическую роль в судьбе Пульхерии Ивановны в "Старосветских помещиках" Гоголя, – то жизнь в первом поколении – не в аквариуме "со всеми удобствами" – по аналогии с критериями комфорта довоенных квартир, или даже в клетке, как у меня волнистые попугайчики, а "братьев меньших", животных таких, как волк, медведь, тигр, обезьяна – в условиях современного зоопарка, за кулисами цирка, наконец в квартире – даже попавших в неволю чуть ли не новорожденными, не гарантирует от того, что они сделаются совсем ручными, домашними, своего рода членами семьи, как бывают собаки или кошки.
Цитата из раздела книги под интригующим заголовком "100 загадок природы" – о "оборотнях" – в соответствующей главе, в частности о детях, вслед за героем повести Киплинга, именуемых "маугли". "Трудно сказать, почему некоторых "человеческих детёнышей" животные берут под свою защиту… С 1843 по 1933 год только в Индии поймали 16 детей-"волков" (обоих полов), несколько малышей – "пантер", "леопардов", "обезьян" и даже мальчика-"антилопу"… Те "маугли", которые выживали в джунглях, прекрасно приспосабливались к дикой жизни (даже их зубы изменялись), чётко повторяли повадки своих приёмных родителей и практически утрачивали человеческий облик…" Таким образом для человека-волчонка злейшим врагом могла стать собака, так же, впрочем, как для моего годовалого внука с его рождения, принявшего как своего их французский, всё же не дог, а догиня (у Пушкина жена дога венецианского – догаресса) – роднёй, пожалуй, чем его живущий в другой стране и считанные часы проведший с ним дедушка, то есть я.
"Утрачивали человеческий облик..." Как тут не вспомнить тех, кто хладнокровно убивал детей, женщин, стариков – и в новое время, в ХХ веке – это были уже не варвары, не фанатики, хотя и такие, но господа, то есть зачисленные в господа над теми, которым не место на Земле, вполне цивилизованные, в меру образованные, и свято убежденные в том, что "так надо", не рассуждая понапрасну. Наверное, и в этом спасительная пластичность психики, мироощущения гомо – с волками жить – не только по-волчьи выть, но и быть беспощадным к любой потенциальной жертве, когда разграничение "свой-чужой" внушается по Бехтереву признанным в данный момент авторитетом, верней, вышестоящим. Впрочем, составляющую внушения, нередко грубого, примитивного, также трудно переоценить.
Этот вирус внушения по Бехтереву, эта зараза, пускай тавтология, как показывает опыт человеческий, весьма заразительна. Недавно вспоминал, как мама со мной в июле 1941-го оказалась в Челябинске, куда доставил эшелон из Киева с семьями сотрудников НКВД. Всех расселили в соответствии с чинами мужей, и поскольку и мы были в списке – вселили в проходную комнату дома на окраине города, одноэтажного, вероятно, ещё Х?Х века, в котором совместно проживало несколько семей, как говорится, и за то спасибо. Но, мало того, – прикрепили к магазину, где по тогдашнему лексикону отоваривались лучше, чем в обычной общественной торговле. Однако вскоре маму мою оттуда изгнали по заявлению группы прикрепленных – да, в Киеве она преподавала в школе, где учились многие дети "чекистов", а теперь она кто? Уже никак не "своя"…
В Челябинске и особенно в городе Бийск Алтайского края, куда мы перебрались – об этом отдельно – почему – я, школьник впервые столкнулся с агрессивным антисемитизмом. Спрашивается – какие могут быть этому объяснения? В этом старинном сибирском городе, насчитывающем несколько десятков тысяч жителей, до войны проживало буквально несколько еврейских семей, невесть каким образом обосновавшихся там. Врачи, инженеры, учителя. Тот же контингент эвакуированных – женщин, стариков, детей, потерявших – пусть на время – родной дом, и неизвестно – что ждёт их мужей, оставшихся там родственников, и какие ценности могли они увезти – поистине "всё своё я ношу с собой" – образование, профессии, жизненный опыт, – чему тут казалось бы завидовать, за что так невзлюбить; кстати, немалая часть эвакуированных не была евреями, но всё же… Версия, что срабатывала пропагандистская версия гитлеровской пропаганды – война идёт не против русского народа, но – жидов и коммунистов – не выдерживает критики. Приходит на ум старый анекдот: некто, прочтя призыв: "Бей жидов и астрономов", недоумевает: а за что астрономов?
Что ж настроить на то, что, в общем, называется общественным мнением, против "врагов народа", "врачей-убийц", пускай не астрономов, но – генетиков "морганистов-вейсманистов", антисоветчиков – Андрея Сахарова, Александра Солженицына – как в книге "ЦРУ против СССР" – НКВД и продолжатели их дела на это мастера, и откуда-то выкапывается вроде то, что было и есть, а чаще чего и не было и нет. Впрочем, подобные "внушения" удавались не только в СССР или в гитлеровской Германии, но и недавнем прошлом, совсем недавнем: при развале Югославии – сербы, хорваты, албанцы; кровавые конфликты на национальной почве – в постсоветском Закавказье, Молдавии; исламистов во Франции, расистов в США, а на религиозной почве… Главное: как правило для таких остроконфликтных ситуаций с многочисленными жертвами, изломанными судьбами нет серьёзных оснований.
А об одной из важнейших функций "тайной полиции" нового времени: располагать достаточными сведеньями о человеке, дабы в нужный момент пустить в ход – припугнуть его или очернить в глазах публики – мы ещё поговорим – включая разного рода "сигналы" для тех, кто в той или иной степени ответственен за греховную личность. И о том, каким образом всерьёз претендовать на признание сверху донизу этого учреждения надёжным охранителем "государственной безопасности". Надеюсь, не сочтется кощунственным, допустим, утверждение, что многое из своего арсенала влияния и на "верхи", и на "низы" это учреждение заимствовано от жреческого сословия, священнослужителей. Связаны с высшими силами, недоступными простому смертному, верующими о том, что есть добро, а что зло в высшем понимании, и что хорошо, а что плохо для всех и для каждого. И душа каждого, даже когда не исповедуется для них – не потёмки.
И взаимоотношения гражданина с этой составляющей государственной структуры, на мой взгляд, зависят в основном от степени его внутренней свободы. Наконец, о моей семье, правда, о родословной обрывочно сохраняю сведенья не ранее, чем примерно полуторавековой давности – дореволюционное фото моего прадедушки с моей мамой – а родился он где-то в середине Х1Х века, отец моей бабушки. А её муж, мой дедушка Мендель – на год старше Ленина. Мои предки по материнской линии – из Белоруссии, по отцовской – из города Невель – пограничного между Белоруссией и Россией. Начну с родителей мамы. Дедушка родился в очень бедной еврейской семье, тем не менее получил какое-то начальное образование, знание древнееврейского языка и даже арамейского – близких родственников, наверное, несколько модернизированного иврита, которым владеет моя дочь. Безусловно и по-русски он мог и разговаривать и читать, и должно быть больше интересовали его книги близкие к научно-популярному жанру. Полагаю, что в результате произошло немыслимое для юноши из традиционно местечково-религиозной провинции: он стал убежденным атеистом на всю жизнь.
Точно так же и дедушка не принял советскую власть, большевиков, и, к ужасу родных, опасающихся, что услышат посторонние, честил и Ленина, и Сталина. Самостоятельно выучил английский, регулярно читал "Москау ньюс", советскую газету на английском. Читал мне, дошкольнику, басни Крылова. Обучил игре в шахматы. Был более чем неприхотлив в одежде, в питании, цитируя одну из заповедей Джефферсона: Никогда не будешь каяться, что мало ел. В Бийске аккуратно колол дрова на зиму – для растопки печки, которая топилась в основном углём.
И, ставший, можно сказать, моим вторым отцом – хотя я только теперь, спустя сорок лет после того, как его не стало, почти сорок – более тридцати девяти, а тогда свой жизненный путь я, повторяя классическое, лишь "пройдя до половины" – этого ещё в должной мере не осознавал, того, сколько доброго сыграл этот человек в моей судьбе. На столе у меня давняя фотография: он, Нахман Лазаревич Бабицкий, Александра Спиридоновна Палатная, о которой речь впереди и третья – молоденькая девушка Саша, моя жена – и спустя 43 года – у нас 32 летний сын Алёша, дочь Оля – на пять лет младше и её сын, наш внук Даня, которому недавно минул годик.
Родился дядя мой в 1894 году в городе Речица в Белоруссии – оттуда, то есть из этих краёв и семья моей мамы, и отца – кто знает, даже в каком веке их предки пришли туда из Германии через Польшу, и осели на белорусской земле, как предки родившегося в том же году, что и Нахман, "отца кибернетики" Норберта Винера, замечательного писателя Айзека Азимова, премьер-министра Израиля Шамира, и наверное ряда других выдающихся личностей ХХ века. В отличие от трёх своих братьев, насколько я знаю, больше тяготевших к торговой сфере, Нахман принадлежал к той части еврейской молодёжи, которая по мере нарастания в России разного рода преобразований, общественных движений, по-разному приобщалась к возможностям вносить в эти движения личный вклад.
Они шли в революционные партии, в организации сионистов, а также в науку, искусство, становились инженерами, врачами, юристами, и этот процесс по нарастающей продолжался и после 1917 года. На совсем старой сохранившейся фотографии – копии – несколько десятков членов еврейской организации "Бунд", столь нелюбимой Лениным, и на первом плане молодой Нахман с газетой в руках – издаваемой этой организацией. Но, как я понимаю, техника, инженерное мышление в душе его было сильней, чем националистические симпатии – об этом позже, и, как следствие, уже в 1918 году Нахман стал студентом.
Как-то навестил свою землячку – она училась в медицинском институте, и застал у неё подругу-студентку, в которую влюбился. Она и впрямь была красива – старшая сестра моей мамы – в несколько русифицированном имени-отчестве и даже фамилии – Софья Мануиловна Чарнэ (её отец, мой дедушка, о котором писал ранее – Мендель Чарный). Но – это были годы гражданской войны, и Киев, как описано в "Белой гвардии" Михаила Булгакова, переходил из рук в руки. Мои старшие родные должны были пережить всё это. Не сохранился документ, выданный моей маме-школьнице в период оккупации германскими войсками, но в моём архиве оригинал аттестата об окончании ею гимназии в 1919 году – с "шапкой" на четырёх языках – украинском, русском, польском и еврейском – соответственно тогдашнему населению Киева.
Какой-то солдат – деникинский или петлюровский, повстречав на улице дедушку моего, решил, что жида нужно убить, – подобный эпизод на страницах той же "Белой гвардии", но дедушка откупился от него золотыми часами, правда, с тех пор изредка у дедушки бывали эпилептические припадки. Хранится у меня в архиве и газетная заметка тех лет о том, что против студенческой демонстрации было применено огнестрельное оружие, и приводятся фамилии убитых и раненых, в том числе Нахмана Бабицкого – в ногу, и после ампутации выше колена оставшуюся жизнь ходил на протезе. Завершилась гражданская война, и моя тётя Соня, как молодой врач, пребывала в частях Красной Армии в таком качестве, но никогда не выставляла напоказ и этот эпизод своей жизни, так же, как свою нелёгкую работу военврача на протяжении всех лет Отечественной войны. Человек, высокопарно говоря, исключительной скромности, она стала членом Коммунистической партии в самом страшном 1942 году, и будучи впоследствии неизменным членом партбюро Октябрьской больницы, насколько я знаю, мы ведь жили одной семьёй – никаких привилегий, и от благодарных больных в лучшем случае – букеты цветов. И вышла замуж за инвалида, без ноги, хотя безусловно могла составить, как говорили, лучшую партию, но это для неё было бы проявление бесчеловечности, непорядочности, впрочем пропитанные буржуазно-мещанской моралью её безусловно оправдали бы – ну зачем связывать себя на всю жизнь с калекой… И через 46 лет после их свадьбы дядя Нахман пережил тётю Соню всего на месяц…
Можно сказать, что они счастливо прожили жизнь, может быть, прежде всего потому, что по-настоящему любили друг друга, но и были в их общей судьбе поводы, верней, причины для того, чтобы радоваться жизни, правда, советская власть порой преподносила и негативные сюрпризы. По окончании гражданской войны понемногу начало возрождаться народное хозяйство, в том числе традиционная и востребованная на Украине кожевная промышленность, в которой Бабицкий уже мог считаться специалистом. И как работник организованного тогда "Кожтреста" был назначен техноруком – так тогда именовался главный инженер – киевского кожзавода, которому, как было модно в те годы, было присвоено имя полководца Фрунзе на одноименной доныне улице, точнее – невдалеке от неё. И когда в начале 20-х годов Фрунзе посетил Киев и пожелал ознакомиться с предприятием, носящем его имя, Нахман Бабицкий выполнял миссию экскурсовода по цехам завода.
Молодожены получили от кожтреста квартиру в доме на углу Владимирской и Прорезной, переименованной в улицу Свердлова, где на первом этаже ресторан "Маркиз", упомянутый в "Белой гвардии". Эту квартиру вроде бы занимал консул Польши, но очевидно после образования СССР, посольства переместились в Москву, консульства открылись гораздо позже. В этой большой шестикомнатной квартире сразу они были единственными жильцами, потом приехали, уже надолго оставив свой дом в Могилёве, родители тёти; забегая вперёд – я прожил в этой квартире не один десяток лет – после войны, в 1946 году в ней проживало уже 33 человека – вплоть до 1989 года, когда я остался один. Тогда дом должен был пойти на капремонт – сегодня, летом 2007 года при замечательно обновленном фасаде и восстановленном внешнем виде как гостиница ещё не функционирует, и неизвестно, когда загорятся в нём вечерние окна.
В 30-е годы на лето мама привозила меня из Москвы в Киев, где под Киевом, скажем, в Горенке или в Клавдиево снимали дачу. Это были счастливые месяцы для всей семьи. У бабушки был, в частности, если можно так выразиться, кулинарный талант, который и я, как с детства сладкоежка, не могу забыть, хотя и другие кушанья были превосходны. Отпуск у дяди, который к тому времени уже работал в "Кожтресте", и у тёти, врача, был ограничен, но кроме периода отпуска, приезжали на выходные дни, и бывали гости – их приятели. Но 37-й год не обошел стороной и Нахмана Бабицкого, тем более к этому времени он был членом партии. Размышляю – почему тогда, когда шли массовые аресты, он остался жив, не был сослан. Наверное потому, что и не был на совсем руководящих постах, и придраться к его причастности к чему-либо "контрреволюционному" не получалось, и, наконец, отправлять одноногого в лагерь для подневольных работ – не резон.
Он так вспоминал то время: когда начали арестовывать некоторых, размышляя и анализируя, находил для каждого какие-то зацепки, грехи, по которым можно было бы судить об их виновности по отношению к советской власти. Но затем исчезали те, в абсолютной честности и порядочности которых он был уверен на сто процентов… Когда началась война, он эвакуировался в Сызрань, понятно, как не военнообязанный, должно быть, на место мобилизованного в армию руководителя тамошнего кожзавода. Когда же его жена, Софья Чарне, обосновалась в эвакогоспитале в городе Бийск Алтайского края, туда съехались – мама со мной из Челябинска, бабушка, дедушка и тётя Роза – долог был их путь при эвакуации из Киева, и Нахман. Тётя Роза, стоматолог начала работать в другом военном госпитале в 30 километрах от Бийска – в месте слияния рек Бии и Катуни в Обь – и летом я там гостил в школьные каникулы, а Нахман начал работать на лесозаводе – учётчиком. Через пару лет он уже был главным инженером этого завода.
Частично этот завод работал и для нужд армии. В заводском доме наша семья получила две комнаты, во дворе дома – грядки, я натаскал хорошей земли, и бабушка засеяла семенами огурцов и других овощей. За городом вспахали участок, посадили картошку, на следующий год и просо, в подвале зимой была кадка с квашеной капустой. Во всяком случае – не голодали, хотя питались достаточно скромно и без разносолов. А по теме – было ли реальным присутствие НКВД в эти годы, в городе за несколько тысяч километров от фронта? Полагаю – не без того, настроения горожан следовало держать под контролем. И в эвакогоспитале, где работала тётя Роза – заместитель начальника по политчасти был достаточно влиятельной фигурой, и возможно некие осведомители из "ранбольных" – поставляли ему соответствующую информацию о разговорах и суждениях находящихся на излечении.
В 1944 году после окончания средней школы экстерном учился я в Новосибирске на подготовительном отделении военных инженеров транспорта, затем в московском институте стали и сплавов, а в начале 1946 года, когда после демобилизации тётя Соня по тогдашнему закону получила часть прежней жилплощади, то есть меньшую комнату, и после меня из Бийска в Киев вернулись дедушка, бабушка, мама и тётя Роза, мы какое-то время жили в этой комнате всемером, затем взамен всё-таки переселились в большую комнату, разделенную перегородкой. О том, чтобы маме, тёте Розе и мне вернули довоенную квартиру не могло быть и речи.
Началась относительно мирная жизнь. Забыл упомянуть, что Нахман до войны учился в институте лёгкой промышленности, завершал своё техническое образование, но опять же не до конца – после передряг 37-го года так и не защитил диплом, тем не менее его достаточно хорошо знали в кругах специалистом, и предложили начать работать в проектном институте по проектированию предприятий лёгкой промышленности, в частности кожзаводов. А тётя Соня не сразу смогла вернуться на прежнюю работу в Октябрьскую больницу – уже действовал пресловутый циркуляр Маленкова, секретный, 1944 года – об ограничении допуска "лиц еврейской национальности" не только на руководящие должности, но и туда, где без них могли обойтись за счёт "национальных кадров". И только вмешательство знавшего Чарне, как первоклассного врача, с довоенных времен – личного врача Хрущева профессора Губергрица позволило тёте вернуться в эту больницу и впоследствии стать заведующей физиотерапевтическим отделением. Мама моя начала преподавать в младших классах в школе, расположенной рядом, на улице Ирининской.
И по старой памяти Нахман обратился к своим коллегам из института легкой промышленности, чтобы мне оформили перевод из московского института, впрочем, и формально в этом не было ничего сомнительного, и я стал студентом сперва экономического, но затем – так сам захотел – химического факультета. Не считая по-настоящему отцовской опеки в детстве и школьные годы в эвакуации, это была первая акция устройства племянника – в моей судьбе под эгидой КГБ.
В жизни я оказывался во многих коллективах – в учебных заведениях, на предприятиях, в проектном институте, как внештатный журналист и сценарист – часами в редакциях, на киностудии. Как правило, у меня складывались нормальные отношения, в общем, со всеми, с кем приходилось сотрудничать и общаться; с некоторыми – дружеские, но отдельные люди почему-то воспринимали меня враждебно, хотя до конфликтов дело доходило очень редко. И в киевском институте лёгкой промышленности у меня сразу сложились дружеские отношения, в том числе со вчерашними фронтовиками. Контингент был достаточно разнородный – и юноши, которые таким образом были освобождены от армейской службы – в институте была военная кафедра, и девушки из провинциальных городов и сёл, получившие после войны возможность стать дипломированными инженерами с гарантией относительно приличных зарплат, социального статуса, перспектив удачного замужества, устройства быта. Но антагонизма между этими в те годы ещё очень разными социальными группами не было, хотя держались всё-таки обособленно. Тем более, несмотря на то, что часть студентов оставалась на оккупированных территориях и не могла не знать о том, как уничтожали евреев, которые составляли до войны изрядную долю населения едва ли не каждого города и даже традиционно обитали в сельской местности, антисемитизма, по крайней мере, явного, так же как какой-либо неприязни между украинцами и русскими – насколько я вспоминаю – не наблюдалось.
Тут снова придётся уточнять предыдущие рассуждения на тему "личность и эпоха", в отношении последнего. Заглянем в словарь, "Толковый словарь русского языка" 1940 года. "Эпоха – от греческого – остановка (epoche). 1. Промежуток времени, выделяемый по тому или иному характерному явлению, событию и т.п… Мы живём теперь в эпоху войн и революций… Сталин". Пример в свете дальнейшего моего описания моей биографии на фоне тех лет весьма точен. И эпоха может исчисляться даже несколькими годами, чем-то особенным "выделяемыми" как отмечает словарь. Скажем, уже в ХХ веке – начала века в России и 20-х годов. Или Германия тех же 20-х годов и – 30-х, или уже 50-х, Китай 50-х и Китай 80-х. Можно эпохой условно назвать и более узкие временные промежутки – в несколько лет…
Исходя из этого, 1946-47 годы были, скажем, в Киеве под девизом я бы сказал: реальной надежды на лучшее, наверное, для большей части тех, кто там остался, вернулся, осел хотя бы временно, как студент, или "лимитчик" в общежитии, бывший заключенный. И я заделался "комсомольцем ретивым", как пелось в песне, комсоргом группы, редактором ежедневной меловой газеты "Прожектор", организовывал самодеятельность из тех в группе, кто как-то пел, танцевал, декламировал. А что в это время НКВД, в 1946 году преобразованное в МВД под патронатом того же Лаврентия Павловича? Неужели, и тогда я мог попасть в поле зрения этой структуры – почему? И тут-то я с полным основанием могу утверждать, уже тогда, как говорится, на каждого мосье есть досье. И знал я об этом чуть не из первых рук.
То есть от однокурсника Сергея Ляшко. Наверное, нелишне подробней о нём – тоже показательный "продукт эпохи". Он старше меня на 4 года, и я право не знаю – жив ли он сегодня, в июне 2007 года; ещё года три назад он регулярно звонил мне, но после одного неприятного инцидента отношения были категорически прерваны по моей инициативе. А в те студенческие годы я нередко бывал у него дома, а дом, именно дом, который занимала его семья был недалеко от института, и кого только не зазывал Серёжа к себе, особенно девиц, но чаще разные компании, в том числе шалопутного сына, как сказано и в новейшей энциклопедии 2006 года – государственного и политического деятеля Демьяна Коротченко. Отец Сергея в Гражданскую войну был сподвижником Ворошилова, не знаю чем занимался в последующем, но после войны ведал какой-то хозяйственной сферой на Западной Украине и одним из первых стал владельцем выпусков автомобиля "Победа"".
Во время войны Серёжа Ляшко, как можно было понять из его рассказов, служил в войсках НКВД, а может и в известных заградотрядах, расстреливающих пробующих отступать во время ближнего боя. Как бы то ни было, будучи студентом он регулярно посещал это самое ведомство на Владимирской 33 – тогда ещё не было ни городского, ни районных отделений, и порой поведывал мне об этих посещениях. Звучала там и моя фамилия – со слов Серёжи – ему обо мне задавали вопросы, но не исключаю, как бывало, насколько я понял, с последующими осведомителями – они рассказывали о тех, с кем так или иначе контактировали, причём вероятно практиковался и перекрёстный контроль – а может кого-то из своих соображений выгораживают, или наоборот – завидуя, ревнуя – приписывают чего не было. Но где-то моя фамилия фиксировалась, и возможно, уже тогда "на мосье завели досье" – а отчего бы нет – следовало иметь таковое на всякий случай на как можно большее число граждан. В дальнейшем повествовании скажу, что косвенное доказательство у меня имеется.
С гораздо большим основанием – если говорить о роли в судьбе моей и, пожалуй, моей семьи, чем о предыдущем однокурснике Сергее Ляшко, должен и в этом моём опусе правомерно – рассказать об Александре Спиридоновне Палатной – ранее упоминал о ней – на фото, где мой дядя Нахман и моя жена – более сорока лет назад. Забегая вперед, повторю, что Шура Палатная была, что называется, добрым ангелом нашей семьи, включая и сына и дочку, вплоть до своей кончины во второй половине 80-х годов. Целый семестр мы проучились в одной группе, но тогда я был платонически и безответно, впрочем, и не пытаясь проявлять инициативу для возможной или невозможной ответной реакции, влюблен в одну девицу. И вот как-то летом, спустившись по Прорезной на Крещатик – некоторые моменты жизни отчего-то ярко запоминаются или всплывают во сне – увидел проходящую мимо Шуру, и мы просто прошлись.
И в дальнейшем мы проводили вместе немало часов, но это были более дружеские отношения, чем такие, которые эвфимически называют "близкими". Шура была на пять лет старше меня, и эти пять лет у неё проходили совсем иначе, чем у меня. Она родилась в семье, я бы сказал полушутя "новосоветских помещиков" – у которых был свой дом, сад, огород, какая-то живность, и только; но никакой обслуживающей дворни , и, самое главное, в тихом городе Переяславе, к имени которого добавилось "Хмельницкий" – не для отличия от Российского Переяславля Залесского, а в честь временами пророссийского гетьмана. Брак родителей Шуры был не совсем мезальянс, но мама её, как поётся в украинской песне, "панського роду", и, как я понимаю, давала порой великому труженику Спиридону Васильевичу это почувствовать.
Спустя три года после рождения Шуры на свет появился её брат Петя, а ещё через два года – сестра Валя, моя ровесница, с которой доныне изредка перезваниваюсь. И для старшей дочери Шуры на всю жизнь её стала забота о семье, своих, чего бы это не стоило – такое, может быть, сохраняющееся на Востоке клановое чувство. Шура хорошо училась в школе и поступила до войны в сельскохозяйственный институт, полагаю, по призванию. Гарантией благополучия в новой жизни после повальной коллективизации, голода начала 30-х годов – могла стать надёжная профессия агронома с высшим образованием и членство в коммунистической партии; и Шура совсем юной сделалась формально коммунисткой, хотя думаю и тогда многое сознавала в том, что происходит в стране. Но – в июне 1941-го началась война, и уже к осени город был оккупирован, а спустя некоторое время в Германию на принудительные работы начали отправлять молодых людей. Возможно, Шура Палатная решилась отправиться в таком статусе в Германию, чтобы тем самым как-то под видом полудобровольности этого поступка помочь выживать семье в период оккупации, рассчитывая на возможную снисходительность оккупационных властей и местных полицаев…
Тяжелая работа в городе Хемниц, ужасный быт, жизнь впроголодь, благо добрая фрау Гильда как-то старалась подкармливать этих невольниц, хотя гестапо в те годы отнюдь не поощряло такого. В 1971 году, будучи в ГДР по частному приглашению в Дрездене, и направляясь с рекомендованными для знакомства Берндом Гизлером на его родину – в Рудные горы, мы по дороге заехали в Карл-Маркс-штадт (бывший Хемниц), навестили фрау Гильду, я передал привет от Шуры, и впоследствии Шура несколько раз гостила у неё. При авторитарных режимах, при доминировании клерикальных структур, резко выраженной или скрытой конформистской идеологии обостряется дифференциация народа: от тех, кто рвётся быть "святее папы Римского" с готовностью на любые подлости и жестокости – "… и зверствуй именем его…" – как сказал поэт, до людей настолько совестливых, что ради справедливости, добра готовы рисковать и жертвовать многим. И, на мой взгляд, мало симпатичны, так сказать, промежуточные, живущие под девизом, иронически звучащим в советскую эпоху: "а что я лично буду с этого иметь?"…
Кажется была у Шуры наследственная доля немецкой крови, но будучи в Германии она выучила язык досконально; после того, как наши войска заняли восточные земли, одно время работала переводчицей, а многие годы потом читала книги немецких авторов в оригинале. При этом, как я упоминал в другой своей статье "Любіть Україну" она принципиально тогда говорила по-украински, что в ту пору считалось, как бы это сказать, показателем глухой провинциальности – и у студентов из дальних сёл также превалировал суржик. Знала и любила Шура украинскую литературу, культуру, но борьба с "буржуазным национализмом" на Украине тогда ещё ждала своей очереди – на повестку дня встали объекты иного рода для беспощадной борьбы с ними. А специфический украинский национализм ассоциировался с "бандеровщиной" и локализовался на территории Западной Украины, и там войска НКВД жестко или жестоко боролись с остающимися вооруженными формированиями или их возможными пособниками, но это опять-таки – отдельная тема.
Открылись фронты борьбы с низкопоклонством перед заграничным, формализмом в музыке, неблагополучием в языкознании, на очереди были сражения с "безродными космополитами", "вейсманистами-морганистами" в биологии, намечался разгром "физиков-идеалистов". Обо всём этом ныне опубликовано немало интереснейших материалов, не совсем, правда, ясно, был ли инициатором подобного сам вождь и учитель, на протяжении всей своей жизни рьяно боровшийся с врагами – действительными или мнимыми, или идеологический центр ЦК КПСС во главе поначалу с подозрительно быстро скончавшимся от инфаркта Ждановым, и какова была при этом роль НКВД-МВД – поставщика подходящих для разоблачений материалов или энергичного исполнителя наказаний разного рода для обвиняемых и подозреваемых.
Как бы то ни было, разветвлённая сеть информаторов, перлюстраторов корреспонденции, провокаторов, как в судьбе Солженицына и многих других – от студентов до высших руководителей, таких как председатель Совнаркома Вознесенский, - тому характерные свидетельства. И в любой организации, учреждении полагалось обнаруживать и разоблачать тех, против которых действовал фронт борьбы с теми или иными скрытыми врагами советской власти и строительства коммунизма. В этом смысле в какой-то момент я был просто находкой для бдительных сотрудников и вроде бы второразрядного, не на виду института лёгкой промышленности.
Но не я, в этом плане, как говорится, открыл сезон. То, что запомнилось. Профессор Кульберг выпустил книжку "Неорганические реактивы в органической химии", в которой – на свою беду видимо владел он по крайней мере немецким – множество ссылок на зарубежных авторов. В ответ на далеко идущие намёки – зачем профессор так распрогандировал не наших учёных, после судилища на учёном совете, Кульберг похвастал своим друзьям: "Я себя так измазал дерьмом, что обвинения в мой адрес уже не так действовали". Ах, советская власть, должно быть, как и власть предержащие монархи или церковники обожали, когда обвиняемые каялись, признавались в своих грехах, как, например, Зиновьев и Каменев на ХV?? сьезде ВКП(б), но ведь такие признания, подписи под обвинениями любыми путями (кстати, и ныне, и на Украине в милицейских застенках сохраняется такая практика) – служили основанием для наказания виновных, по Вышинскому – собственноручное признание – "царица доказательств вины…" И тому же Кульбергу пришлось перебраться куда-то в российскую глубинку.
Вспоминается и более курьёзный – по прошествии стольких лет – эпизод. Один из более или менее просторных залов института именовался клубом, где устраивались вечера самодеятельности или приглашались артисты за счёт профкома. И как-то на самодеятельном концерте был разыгран немудреный скетч, незлобно вышучивающий ещё недостаточно тогда налаженную телефонную связь, особенно междугороднюю. И вот персонаж-абонент пытается связаться, допустим, с недалёким Борисполем, и напрямую это никак не получается. Тогда он заказывает, кажется, Нью-Йорк, и через надёжную заокеанскую телефонную связь, транзитом выходит на Борисполь. Ну, какой вывод можно сделать из этого пасквиля на отечественную технику? Ясно – зарубежная предпочтительнее, наверное, как и всё остальное – западное…
Почему-то решено был, что "политическую близорукость" допустил исполняющий обязанности завклубом студент Вася Ибрагимов, татарин – не единоплеменник ли выселяемых тогда крымских татар – и исключили Васю из числа студентов, впрочем, потом восстановили; и впоследствии стал Ибрагимов министром лёгкой промышленности Казахской ССР, Помнится также позже исключили из института студента Этингера – такая фамилия звучала то ли в "деле врачей-убийц", то ли в схожем – так что основания для такого шага нашлись. А со мной было совсем просто – сочинил явно не то, что служило делу построения коммунизма, скорее наоборот. Впрочем, чем были так уж страшны для советской власти лирические стихи Ахматовой или юмористические рассказы Зощенко?
Теперь вкратце о себе, как об одном из действующих лиц моего повествования, и, должно быть, не совсем совпадающее с тем, что записано в моём досье, с которым никак не могу ознакомиться, но об этом позже. С детства, вернее, с раннего детства я был сочинителем, не фантазёром, хотя в своё время писал фантастические рассказы, но стихотворцем – боже упаси гордо именоваться поэтом, подобно многим моим современникам, знакомым и незнакомым, но и это – тема особая. Сочинял я всегда, меньше всего заботясь о возможности публикации; правда, частично как журналист, корреспондент журнала "Техника – молодежи" и "Правды Украины", затем автор радио и телепередач, сценариев учебных, технико-пропагандистских фильмов подчинялся заказной тематике, но сегодня уверенно отмечаю, что большая часть этих предлагаемых тем о достижениях различных областей науки и техники, мне нравилась, я работал над этим увлеченно, узнавая новое и чрезвычайно для меня интересное.
Вообще, то, что делал в жизни старался делать добросовестно, разве что несколько небрежно домашние работы, однако по счастью начисто лишен честолюбия, и наверное это сохраняло зачастую душевное равновесие, хотя конечно огорчала несправедливость, незаслуженные обиды. Слава пришла ко мне, школьнику второго класса, после того, как опубликованное в "Пионерской правде", а затем в других газетах наивное стихотворение "Подарок Сталину"; на торжественном вечере, посвященном принятию "сталинской конституции", сам "автор" этой конституции похлопал великому артисту МХАТа Качалову, зачитавшему искреннее обращение какого-то мальчика к вождю народов. И сопутствующие этому интервью у нас в доме и премии ничуть меня не трогали, и я никогда об этом не вспоминал, а уж после войны моё юмористическое стихотворение было опубликовано в 1952 году, ещё при жизни Сталина во всесоюзном журнале "Крокодил".
Вообще, произведения юмористические, в ироническом ключе, как бы это поскромней выразиться, удавались мне лучше, чем лирические – в жанре стихотворений, фантастических рассказов, может быть, особенно эпиграмм, которые сочинял, как говорится, на ходу – о коллегах в проектном институте; учащихся техникума, где преподавал; и даже на семинарах профессиональных авторов советской эстрады мои экспромты пользовались успехом. И в институте лёгкой промышленности я, что называется, развернулся. Эпиграммы на однокурсников, отклики на текущие события студенческой, институтской жизни. Сменилось руководство института. И до войны, и после войны директором этого института (ректоры появились позже) был профессор Котов. Среди учёных, может быть, и поныне встречаются такие – их называют "генераторами идей".
Звания и должности заботят такие натуры в последнюю очередь. Кажется и Эйнштейн не был даже кандидатом наук, и многие зарубежные выдающиеся учёные в сфере естественных наук получали дипломы докторов философии, такое условное признание мыслительных способностей. А у скольких диссертаций по всем отраслям знаний нулевой коэффициент приращения нового, существенного, более или менее значительного в ту или другую науку. И, насколько я знаю, звание "профессор" как и до революции, в начале при советской власти не обязательно требовало подкрепления соответствующей диссертацией. И повод, что институт возглавляет не "остепененный" был использован для того, чтобы его снять с этой должности и назначить директором института выписанного из провинции родственника начальника учебных заведений Украины (не помню, как официально называлась его должность) – Бухало – кандидата технических наук в области деталей машин Кукибного – в его диссертации, если не приводилась конструкция вечного двигателя, то определённых типов болтов и гаек. И контраст – между грубым, заносчивым, косноязычным в выступлениях и перед студенческой аудиторией, и – интеллигентным, образованным, демократичным Котовым был налицо.
Так возникла моя шутливая поэмка "Кукибниада", которая нашла отклик едва ли не у большинства студентов всех курсов, и авторство моё не было анонимным. Полагаю, что руководство института, как водится, посоветовалось с деятелями из райкома партии, а то и с "товарищами из органов" – как им быть в этом случае, и получило нужные рекомендации. Как тут не сварганить целое "дело" – в СССР традиционно, от "шахтного дела" в конце 20-х годов, через "дела" врагов народа, затем "врачей убийц" и так далее, и уже позже "дело Синявского – Даниэля", "дело Солженицына" – все такие "дела" обставлялись публично и должны были иметь общественный резонанс. Дополнял таковое и также взятый на вооружение, похоже разными диктаторами нового времени ""показательный процесс".
Нет, не НКВД, не судебные органы, а главным образом коллеги – писатели, композиторы, учёные, притом известные и уважаемые, должны были единодушно осудить сбившегося с пути истинного и ставшего игрушкой в пропагандистских кругах "злейших врагов" всего прогрессивного. Сейчас это представляется диким, но для меня не менее диким та готовность осуждать, даже толком не зная за что – тех "уважаемых", которым уже в послесталинские времена не грозило в случае уклонения от осуждения, даже протеста – ничего такого уж страшного, разве что перестанут издавать и лишат малосущественных привилегий.
Появляются в печати начиная с конца 80-х годов ХХ века рассекреченные документы тех лет, не все ещё рассекреченные – об этом также отдельно, – и представители новых поколений, те немногие, что могут заинтересоваться прошлым – мало ли чего в нём было, но всё-таки – серьезно мыслящие не вправе не задуматься – взаправду так оно было в ХХ веке? И ещё серьёзней: а где гарантия, что не повторится, да ещё в более скверных вариантах? В моём архиве также сохраняются – может, пока я жив – разные бумажные свидетельства минувшего века, некоторые своеобразные, в какой-то степени, приметы той эпохи. В том числе "Приказ по Киевскому технологическому институту лёгкой промышленности. г. Киев. № 86. 7 декабря 1948 года.
1. Студента химико-технологического факультета, 1У курса, ФИЛАНОВСКОГО Г.Ю., за моральное разложение и попытку внести цинизм и гнусную клевету в среду коллектива института, из числа студентов института исключить.
2. Студентку химико-технологического факультета, 1У курса, ПАЛАТНУЮ А.С., за сознательную дезорганизацию студенчества с целью оправдания аморальных поступков Филановского Г.Ю., из числа студентов института исключить.
3. Студентке химико-технологического факультета, 1У курса, МЕЛЬНИК Е.К., объявить строгий выговор с предупреждением за распространение среди студентов аполитичных и вредных произведений Филановского Г.Ю.
4. Студентке химико-технологического факультета, ?V курса, БЕЗГАН К.А., объявить выговор за непринятие мер к предотвращению распространения аморальных и политически вредных "стихов" Филановского Г.Ю.
5. Старосте химико-технологического факультета, 1У курса гр. ХТ-28 ФАЛЬКОВСКОЙ И.М. объявить строгий выговор за допущение в группе нарушения правил внутреннего распорядка института. От обязанностей старосты группы освободить.
6. Старостой группы ХТ-28, 1У курса, назначить студентку ВОЛОШКО Г.В. Обязать старосту группы Волошко Г.В., совместно с комсоргом и профоргом группы принять все меры к налаживанию дисциплины в группе и быстрейшей ликвидации политически неправильных настроений среди отдельных студентов.
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА (доц. Кукибный А.А.)
Комментарии к этому документу. Воспринимаемое сегодня как явный нелепый анахронизм словосочетание "моральное разложение" в те годы и последующие было испытанным клеймом для должностных лиц, уличенных в разврате (любовница, хотя бы единственная), алкоголизм заметный и при исполнении обязанностей, получение взяток, пусть и "борзыми щенками" – но применялось к тем, которых начальство над нами решало по тем или иным причинам убрать с занимаемых мест, "поставить на место". В недавней публикации Галина Вишневская с иронией вспоминает, как в былые годы, будучи замужем и оказавшись в Праге с Мстиславом Ростроповичем "морально разложилась", – начался их, что называется, роман – счастливый многолетний…
Меньше всего ко мне тогдашнему мечтательному юноше подходило и "моральное разложение" и тем более "цинизм" – думаю, что сочинявшие вышеприведенный трактат слыхали, что цинизм – это нехорошо, не по-советски, а хохмить в адрес директора – заведомо "гнусная клевета". Остаётся загадкой: какие мои "аморальные поступки" оправдывала Шура Палатная и в чём заключалась "сознательная дезорганизация студенчества" – но о том, отчего и её исключили в связи со мной – ниже. Однокурсницы Мельник и Безган просто читали в общежитии эти мои стихи, как и другие юмористические, недооценив в данном случае – чем это пахнет и чревато. Мельник, насколько я знаю, на всякий случай кинулась к родичу – сотруднику МВД и всё уладилось – для неё.
Несколько слов об упомянутых в этом приказе – Клаве Безган, Иде Фальковской, Гале Волошко, как у Дюма "Двадцать лет спустя", и ещё двадцать… Через двадцать лет после окончания моими однокурсниками института (а я получил диплом заочного института лишь два года спустя) была организована встреча, в которой участвовали и я, и Шура Палатная. Встреча была организована по высшему разряду – самим ректором института Виктором Анохиным, в прошлом также моим однокурсником. О нём, прежде, чем об упомянутых в "приказе" – пунктирные встречи на протяжении сорока лет. В студенческие годы Витя был предметом снисходительных насмешек – оказывал преподавателям мелкие услуги, пересдавая тройки на четвёрки, и в своей меловой газете "Прожектор" я как-то представил его как запатентовавшего "мазь-подхалимаж". Он обиделся, справедливо, каюсь, порой тогда мои эпиграммы и прозвища бывали не то, чтоб несправедливы, хотя и так бывало, но грубоваты, не в меру хлёстки, как и в той же "Кукнибиаде".
Впрочем, это не помешало Анохину, когда я работал на кожзаводе, при встрече попросить принести ему немного красителей перед Пасхой – для реализации верующим, красящим яйца, хотя не уверен, что такого рода красители были безвредны для потребителя пасхальной атрибутики. А головокружительной своей карьере Виктор обязан тому, что с отцом его жены, генералом, в бытность его секретарём обкома или крайкома на Кубани, был дружен не кто иной, как сам Михаил Суслов. Как-то Анохин поехал в Москву и пробился к всесильному идеологу марксизма-ленинизма, и напомнил ему о бывшем друге – покойном тесте. И вскоре или тотчас в Киев, наверное, на самый высокий уровень украинского руководства, думаю, даже не лично от Суслова, позвонили и попросили оказать содействие такому-то товарищу. Так Виктор Анохин сделался ректором нашего института.
Надо отдать справедливость – не как учёный (диссертацию ему написал подчиненный), но как администратор, хозяйственник, уже пользуясь поддержкой и не брезгуя дарами поступающих абитуриентов, Анохин сумел построить грандиозное здание – нынешней академии дизайна и новых технологий, правда, для Украины нынче такие, лучше сказать, и такие специалисты – уже не нужны, или я не совсем "в курсе". Мы виделись с Анохиным в 60-е годы, играли в преферанс, случайно встречались в поликлинике для учёных, а уже в 80-х для материалов по сценарию о полимерах я зашёл в бывший мой институт, где Анохин не был уже ректором, но заведующий кафедрой, и членом каких-то академий. На склоне лет встреча с теми, с кем был знаком десятки лет назад, воскрешает в памяти невозвратные молодые годы, оставляя на втором плане то недоброе, что было и в отношениях с этими вынырнувшими из прошлого, их неблаговидные поступки.
А можно было бы вспомнить, как в горкоме комсомола, куда я подавал аппеляцию на отказ райкома восстановить меня в рядах комсомола, пригласили для показательных выступлений студенческую группу, в которой я числился – чтобы продемонстрировать соответствующую реакцию на происки отщепенца. А секретарь райкома комсомола так разъяснила мне мои права на обжалование решений определённых инстанций: если комитет комсомола ошибётся – райком подправит, а если райком ошибётся – горком подправит, а горком может подправить ЦК; и, предвосхищая возможный логический вопрос, поспешила добавить : а ЦК – не ошибается! И впрямь – на заседании ЦК ЛКСМУ, где окончательно принималось решение о моём членстве в комсомоле, заседание вёл первый секретарь небезызвестный Семичастный, который настолько не ошибался, что организовывал впоследствии, будучи председателем КГБ СССР, травлю Пастернака, и своевременно предал Никиту Хрущева, который вознёс его, киевского знакомого, на столь ответственный пост…
Надо сказать, что мероприятие по разоблачению поступка Филановского в горкоме комсомола удалось на славу, в общем, так же, как в те же годы или позже писательские собрания, одобряющие осуждение Ахматовой и Зощенко, а позднее Пастернака, а в 1937-ом врагов народа, а в 70-х Солженицына – в трудовых коллективах – трудящиеся проявляли высокую сознательность, особенно каждый понимал – какие могут последствия для него в случае не то что несогласия с линией партии, но и недостаточного выражения своего возмущения.. Человеку, живущему в державе с достаточным приоритетом прав человека, да и поколению, вступившему в ХХI век, непросто представить себе, как гипнотическое "так надо, а иначе…" доминировало над здравым смыслом, совестью, чувством собственного достоинства. Но я в то время, которое вспоминаю, оказался как раз на той "скамье подсудимых" пусть не в буквальном смысле – и в качестве осуждающих были приглашенные специально на это мероприятие в горкоме комсомола Киева мои однокурсники, того факультета, на котором учились.
Присутствующим предлагалось высказаться. Сергей Ляшко промолчал – он докладывал непосредственно в КГБ. С пламенной речью выступила одна девица, которая только что откуда-то перевелась в этот институт, но сходу оценила ситуацию – и, что ли, "набирала очки" "идейно выдержанной". Мой ближайший друг Савва Шустер, постарше меня, и, насколько он мне рассказывал "пуганый" – каким-то армейским чином – за "длинный язык" и откупился от того своими сбережениями – в своей речи метафорически выразился, что не может себе представить, как "дышал одним воздухом с Филановским" – запомнилось, и цитирую буквально. Петя Бабчук, женатый на прелестной Мусе, как бы оправдываясь, заявил, что упреки в его адрес, что он по отношению к жене порой занимается рукоприкладством, – ерунда в сравнении с тем, в чем против советской власти виноват автор этих строк.
Прошли годы – Савва женился на упомянутой в "приказе" Иде Фальковской, которую освободили от обязанностей старосты – понятно, и еврейка, и близкая подруга и землячка Шуры Палатной. Назначенная вместо неё Галя Волошко – оформляла карикатурами нашу меловую газету, получила направление в Калининград, там вышла замуж за моряка, и при встрече нашей группы через двадцать лет декламировала мои стишки, которые я безусловно забыл. Лет десять назад, уже в конце ХХ века – обменялись с ней письмами, а сегодня, в 2007 году – право не могу представить, кто из тогдашних сокурсников ещё жив, как я. Савва с его неуживчивым характером, зато высококлассный инженер, в должности главного инженера кожзавода кочевал по стране. Я навещал его в Василькове, а скончался он в Рязани, откуда ещё несколько лет назад в Киев приезжала Ида, мы с ней и виделись, и потом переписывались, но – и она постарше меня, и переписка оборвалась – можно предполагать отчего. Наконец, как-то командированный от газеты "Правда Украины" в Бердичев, я был гостем у Бабчуков – отметил, что у Муси потухли лучистые в юности глаза, но – замечательная семья, сын и дочь – всё вроде устоялось, разве что новое время как-то сказалось на младших поколениях.
Кажется, у Энгельса такое высказывание – что в критические моменты народы, как и отдельный человек, проявляют себя неприкрыто, выявляя достаточное мужество или трусость, совестливость или приспособленчество, человеческое достоинство или готовность жертвовать даже близкими и самым дорогим. Может быть, всё это сказывается и не в экстремальных ситуациях, не в таких, что подстраивается умелым драматургом? Порой слышишь в адрес прошлого, нашего прошлого: такое было время… Наверное, в любое время, в наш век, и в самых благополучных странах и обстоятельствах – находятся те, что с готовностью идут на подлость, измену, безразличие к чужим страданиям – искусно оправдывая это различными объективными и субъективными причинами. И, напротив, иные немногие люди – нет, как водится в мемуарах, я не стремлюсь безоговорочно причислить себя к лику святых или им в какой-то мере подобным, хотя вроде бы в жизни не подличал и не кривил душой, правда – злопамятен, но и хорошо помню то доброе, что делали для меня и моих близких – покойных родных или нынешней семьи.
И нередко думаю: а ведь могло быть хуже, начиная с того, что запросто могли "замести" – что в те годы бывало обыденным. Не случайно тогда в некоторых вузах Киева ответственные товарищи призывали к "борьбе с филановщиной", не расшифровывая, впрочем, как следует бороться с этим злом. Проходили аресты студентов, в том числе моего знакомого Любецкого, студента философского факультета университета, и других. Впоследствии я задавался вопросом: почему меня тогда минула "чаша сия"? Была и такая версия: моё "дело" попало в руки сотрудника бывшего НКВД – теперь МВД, которому запомнилась фамилия моей мамы, как учительницы его ребёнка, и он пожалел её сына. Но анализируя былое я кажется для себя прояснил картину тогдашних спасших меня начальственных манипуляций. И помогает в этом внимательное прочтение цитируемого выше приказа об отчислении меня и Шуры Палатной из института.
Итак, следовало объяснить – как так получилось, что юный активный комсомолец вдруг совершил столь неблаговидный поступок? Подходящее объяснение: дружил он с гражданкой, которая несколько лет провела в Германии, и, так сказать, пропиталась фашистским душком, и настроила своего дружка подстрекательски – сочинить такое… Но – тогда же началась кампания против "безродных космополитов". Когда без моего ведома моя мама отправилась в институт в надежде смягчить ситуацию, то услышала следующее: у вас хороший сын, фото его на доске почёта, но, как мы понимаем, преподаватели – евреи (а таковых немало было тогда в институте, позднее от большинства избавились), зная, что ваш сын еврей, настроили его соответственно – чтобы сочинил пасквиль, подрывающий авторитет директора. Вот пусть он так и напишет, и мы не станем тогда его преследовать…
Мама пришла домой в ужасе от такого предложения, и рассказала об этом позже, но версия такого рода была также пущена в ход, наряду с предыдущей. И, как мне кажется, нестыковка этих версий и привела к тому, что – нет не махнули рукой на меня в этом ведомстве, но поняли, что внятное обвинение пока не сформулировано должным образом. А, поскольку я был всегда весьма общителен, то при посредстве стукачей можно будет выуживать то, что происходит в моём окружении; и такое предположение вполне подтвердилось уже через десятки лет. Когда я подавал аппеляции в комсомольские инстанции, меня направляли из одного отдела в другой – с какой целью? Один из комсомольских вождей, вперив в меня взгляд, изрек: мы о вас знаем всё!
Честно говоря, я недоумевал: ну что такого ужасного они могли знать обо мне? Тем не менее я был им нужен, как понял позже, как, можно сказать, исследуемый объект неблагонадёжности, возможно для составления коллективного что ли портрета части молодёжи, недостаточно идейной – тогдашний лексикон подразумевал под этим безоговорочную лояльность властям предержащим и готовность при любых обстоятельствах – "комсомол ответил – есть!", когда "партия сказала "надо" – а что и почему надо – не рассуждать… И меня, как живой объект, передавали из кабинета в кабинет в помещении горкома и обкома ЛКСМУ – в доме, где теперь Министерство иностранных дел. Может быть, мне тогда представлялось, что у тех или других комсомольских деятелей и впрямь появится убеждение, что меня ошибочно исключили из комсомола и института.
Но какие-то элементы тогдашних недолгих бесед врезались в память. Спрашивали – что я теперь читаю – а тогда как раз взял у знакомых том дореволюционного издания "Братьев Карамазовых", и ответил как есть – Достоевского. А читал ли нового лауреата Бабаевского? Нет, не читал. Отсюда уже можно делать выводы. Желая уличить меня в злоупотреблении иностранными по происхождению словами – тогдашняя вульгарная кампания по сути формального подхода под флагом борьбы с низкопоклонством Западу отличалась от стремления одного из героев "В круге первом" всячески сохранять чистоту и богатство русского языка; так вот некий деятель заметил между прочим: у вас в стихах слово "финтифлюшка" – из французского (на самом деле из итальянского). Тогда я не нашёлся парировать, что, скажем, "коммунизм", "социализм", "партия" – тоже слова не исконно русские.
А другой улыбчивый вопрошающий, предложил мне следующее: ряд студентов осуждают ваш поступок и о вас отрицательного мнения, но должно быть есть у вас друзья, которые могли бы хорошо о вас отозваться? А я ответил: зная, как несправедливо поступают со мной – не поступят ли так же и с ними – только потому, что мои друзья.
Не знаю, как был воспринят мой ответ: подумал: "святая простота" или "ух, наверное, тёртый калач", хотя тогда, несомненно, верней было первое. Сегодня подобные штришки былого, конечно, не только в моих воспоминаниях – со многими бывало и похлеще, и куда трагичней, но кажется полуреальным, словно из неопубликованных дневников героев Замятина или Оруэлла. И всё такое может быть не стоило бы вспоминать, если бы не сохранялась тенденция деятельности идеологических и спецслужб должно быть в большинстве современных держав, и нынешняя Украина тому характерный пример.
Прошли десятилетия, и общения с майором КГБ, уже в 70-80-е годы, и наблюдения со стороны за нынешней Службой безопасности Украины укрепляют меня в мысли, что главное для этих господ – показать, что они недаром едят свой хлеб, и не только с маслом. Дабы избежать упреков в предвзятости к тому, что я вижу в стране, где живу, замечу, что к обозначенному разряду закулисных деятелей, чьё могущество основано на возможности найти повод покарать любого неугодного, могу отнести и религиозных правителей в Иране, и ЦРУ в США. Должен при этом сразу оговориться: я категорический противник неумеренных обобщений, абсолютизации. Меня настораживает в высказываниях, подчас запальчивых: все дети, все женщины, все немцы, все евреи, все кавказцы, все исламисты, все американцы, все художники, все старики, все умные люди, все настоящие демократы, все верующие и так далее.
Не все, и зачастую даже далеко не все, даже если "все собаки" и "все кошки". Я уже вспоминал отца ученицы моей мамы Шклярова, благодаря которому наша судьба сложилась вероятно не худшим образом. В 50-е годы я познакомился с Петром Усачевым, который возомнил себя поэтом, бывший фронтовик, майор КГБ, перевёлся из Донбасса в Киев, чтобы в столице пробиться в престижные писательские круги, что ему вполне удалось – стал членом Союза писателей, издал ряд поэтических сборников. Вспоминается однако злая эпиграмма тех лет в адрес кого-то из "бабаевских". "Отныне он лауреат, и орден получил, и дачу. О, если б мог секретариат дать и талант ему впридачу". Явные козыри для приёма в члены ССП: фронтовик, русский, член КПСС, возможно и то, что майор КГБ было достаточным плюсом; вдобавок он приглашал рекомендантов в ресторан – что было, то было. Как-то, между прочим, сказанул, что "не занимается грязными делами" – возможно что-то по части противовоздушной обороны. Но видимо что-то привлекало его ко мне, частенько был у нас дома; нравились ему мои стихи, и поражался моей небрежности относительно их судьбы, ценил мои замечания. Одним словом, мог по праву тогда называться моим другом, доброжелательным и участливым. Впрочем, не таким ли предстаёт перед читателями романа Рыбакова Николай Ежов – задушевно поёт… И как свидетельствуют историки, разные тираны, подлецы, убийцы – в быту, по отношению к ближним, сослуживцам, непосредственно подчиненным были людьми благовоспитанными, щедрыми, улыбчатыми…
Но это уже на тему драматургической абсолютизации образа злодея; а надо о другом – о тех, кто в традиционных структурах – религиозных надсмотрщиков или спецслужб - профессионально приносит определённую пользу обществу. Может быть, авторитет священнослужителей как-то положительно влияет на нравственный уровень верующих; или – спасибо тем сотрудникам спецслужб, что взаправду смогли предотвратить террористические акты. Другое дело – в той или иной солидной структуре, отлично обеспеченной и для её деятельности, и для стимуляции благосостояния вовлечённых в неё – каков действительный коэффициент полезного действия, полезного для большей части населения, охватываемого вниманием этой организации? Например, в 30-х годах НКВД в Советском Союзе, так же как гестапо – функционировали преимущественно как репрессивные аппараты, хотя и разведка, и контрразведка были также на высоте, правда, это давало преимущества в основном стоящим у власти в СССР и в Германии.
Но с этими общими рассуждениями я, кажется, забежал вперёд, и пора вернуться в далёкое прошлое, хотя приведенные соображения проясняют и то, что в последующие годы касалось, и ещё как меня касались, но, может быть, как в Булгаковском эпиграфе к роману "Мастер и Маргарита" из "Фауста" – это "зло" из КГБ в результате оборачивалось добром для моей судьбы в аспекте вероятно выходящем за рамки чисто житейского, но о таком телеологическом, почти мистическом рассуждают отдельно и углубленно. Во всяком случае, знаю точно – не таинственные ангелы-покровители из мира потустороннего, а люди реальные старались делать мою жизнь по возможности привлекательной во многих смыслах.
Прежде всего, – мои родные со стороны мамы: бабушка, дедушка, тети Роза и Соня, её муж Нахман, – я упоминал их всех ранее. Реально после моего исключения из института что-то сделать для облегчения моей участи мог только Нахман. В то время он работал в одном из проектных институтов, как и я позднее, и его сверстники - техническая интеллигенция, - получавшие образование в предвоенные годы, может на рубеже 30-х, интеллигенты, и не в первом поколении, были, помнится мне, людьми образованными, и что называется, порядочными, разумеется, без сословных или национальных предрассудков, и естественно их общение между собой было закономерным – будь то игра в преферанс, беседы на разные темы, откровенные – не боялись, что стукачи в их кругу донесут – слушали, дескать, зарубежные "голоса".
Запомнились мне фамилии Гасовский, Зильберман, Коханов, и не только фамилии – они и другие бывали у нас в доме. По крайней мере, первые двое были однокурсниками- архитекторами Виктора Некрасова, который тогда после "В окопах Сталинграда" стал лауреатом Сталинской премии, в ореоле славы, но в узком кругу его друзей тогда были упомянутые выше. Не знаю, специально или между прочим, при какой-то встрече Некрасову рассказали о том, что со мной произошло, и он захотел помочь мне, и даже собирался побывать на заседании обкома комсомола, где меня исключали на очередной инстанции, однако не получилось. Допускаю, что был у него и писательский интерес; сужу по тому, как подробно расспрашивал меня о том, что было со мной, и возможно в какой-то мере эта коллизия легла в основу сюжета его повести "В одном городе" где у молодого человека, студента, возникает конфликт с институтским руководством; помню местная газета откликнулась на эту повесть критически "Это не наш город!".
Я бывал у Виктора Платоновича ещё на его коммунальной квартире, потом в Пассаже, где теперь висит мемориальная доска, нет, не принадлежал к числу его многочисленных и порой сомнительных приятелей последующих лет, встречи были случайными, и последняя – на бывшей улице Свердлова, Прорезной, когда он, показав в сторону Владимирской, 33-го номера дома – республиканского КГБ, грустно заметил: хожу туда, ежедневно, как на работу. И вскоре уехал из страны навсегда. Но ещё в сороковые годы, будучи членом редколлегии журнала "Советская Украина" (впоследствии "Радуга") и узнав, что я пишу стихи – не только сатиру на директора института, попросил поэта Николая Ушакова уделить мне внимание.
И в течение ряда лет я приносил Николаю Николаевичу свои стихи; что-то ему нравилось, что-то не очень; но главное – он был из вымирающего при советской власти или вымершего на сегодня уникального племени настоящих русских интеллигентов – я наверное чувствовал это подсознательно, и понял впоследствии, как и многое другое. Но к этой категории мыслящих людей; не обязательно инако – то есть недружелюбно к советской власти, но просто мыслящих – идеологическая – "чекистская" верхушка всегда относилась настороженно, перефразируя Паскалево – "мыслю – значит существую" – независимо от господствующей религии, идеологии, предрассудков – и это уже опасно. Ушаков хорошо понимал это, бывший потомок дворянского рода – "бывший" – с пометкой "неодобрительно" в непечатном словаре лексикона советской власти.
И как он ни был осторожен в высказываниях, каким авторитетом ни пользовался у выдающихся деятелей украинской культуры, с которыми был дружен и творчески сотрудничал, – и его, что называется, достали. Нет, ни о каком даже намёке в его стихах или высказываниях на антисоветчину не могло быть и речи; более того – если в стихах, которые я ему приносил, попадались сомнительные строки, он их "не замечал". Но случилось непредвиденное. В Москве проходила декада Украины, точнее Украинской ССР, Торжественное открытие демонстрации культурных и прочих достижений республики началось с исполнения проникновенного стихотворения Владимира Сосюры – "Любіть Україну!" И оно сильно не понравилось – то ли самому хозяину, то ли другим членам Политбюро – и имя товарища Сталина вообще не упоминалось, и не делался акцент на достижениях Украины именно благодаря советской власти.
Как водится, это нашло отражение в разгромном постановлении ЦК КПСС. Попутно обнаружилось, что переводчиком этого стихотворения на русский язык был ни кто иной, как Николай Ушаков, причём чувствуя уязвимость произведения с идеологических позиций, слегка подправил его , упомянув расцвет колхозов и т.п. Хорошо это или плохо? Вывод сделан иначе – Ушаков пытался тем самым завуалировать националистическое нутро автора оригинала вместо того, чтобы разоблачить… Припомнили Ушакову и другое – какие-то произведения, вроде бы аполитичные и намекали на ущербное социальное происхождение. Рикошетом и я от этой истории, можно сказать, пострадал. Мою "заводскую" поэмку для публикации в журнале "Советская Украина" рекомендовал тот же Ушаков, и хотя я уже был автором журнала, его рекомендация тогда могла быть воспринята только со знаком минус.
Итак, с 1949 года я работал на кожзаводе. Легко догадаться, что и туда я попал с подачи дяди Нахмана – заводское начальство было ему знакомо ещё с довоенных лет, и таким образом нас – меня и Шуру Палатную взяли на работу цеховыми лаборантами. Работа трёхсменная, непрерывка, никаких воскресных и праздничных дней – выходной у меня "мусульманский" – пятница. Тем временем удалось возобновить учёбу в филиале Московского института аналогичного профиля, и к 1952 году к лету пора защищать диплом. Однако именно эта "корочка", как говорили тогда, послужила поводом для фокуса и с работой Нахмана, и отчасти моей. Но о Нахмане – чуть позже, а со мной ситуация выявилась парадоксальной. Получив диплом инженера, я вполне мог претендовать на амплуа мастера цеха, о такой перспективе говорил мне и начальник цеха, тем более, что на этой должности находились люди в лучшем случае со средним образованием. В то же время мои однокурсники по распределению отправлялись кто куда, в разные далеко не столичные города Советского Союза, в том числе и Сергей Ляшко, который вернулся в Киев лишь спустя несколько лет.
Так что же это получалось? Так проштрафившийся, исключенный из института – в горячке даже предлагалось написать "без права поступать в вузы" – в результате преспокойно начнёт работать в Киеве? И не иначе, как "оттуда" поступило распоряжение – не допустить такого ни в коем случае. Но каким образом? Моими сменщицами в то время были молодые мамы с неполным средним образованием, и по просьбе начальства я зачастую работал в ночные смены вместо них – удовольствие, как говорится, ниже среднего, но – что попишешь. И в один прекрасный день моя сменщица утром передала мне, что днём мне нужно приехать – вроде бы для обучения новой методике анализа растворов для дубления кожи. Конечно, никакой срочности не было в этом, можно было дождаться, пока я буду хотя бы на вечерней смене, или чтобы та же сменщица рассказала в чём состоит это новшество, которое, кстати, потом никак и не применялось ни разу, но я решил, что ни к чему мне вместо того, чтобы выспаться днём, снова рвануть на завод. Видимо на это и рассчитывали.
И после очередной ночной смены объявили, что я уволен. Надо было видеть, с каким ожесточением при этом часть заводского начальства, собравшись, набросилась на меня – видимо выставляя напоказ на всякий случай свою готовность рьяно выполнить любое указание "оттуда" – иначе такая демонстрация была ни к чему. Но Шура осталась работать на заводе, а после получения диплома стала мастером цеха. А меня надо было снова устраивать на работу – хоть какую. А кампания против "безродных космополитов", трансформируясь в поход на "врачей-убийц" той же национальности, ещё далеко не шла на убыль, наоборот, и когда я приходил в какую-либо организацию по объявлению "требуются…", кадровик, взглянув на меня, сразу отрезал: "не требуются". И снова пришлось Нахману искать обходные возможности моего трудоустройства. Одним из рычагов воздействия на руководителей предприятий было то, что в проектном институте, где работал Нахман, могли и притормозить, и ускорить выдачу проектной документации для строительства новых цехов, реконструкции производства.
Согласовали вопрос с директором трикотажной фабрики имени Розы Люксембург, и меня приняли мастером в красильный цех, впрочем, как выяснилось, без соответствующего приказа и оформления трудовой книжки. Надо сказать, что работа на предприятии мне нравилась, впрочем, как и в бытность проектантом, преподавателем, журналистом, сценаристом – увлеченно выполнял текущие задачи, не знаю, насколько творчески. И довольно быстро освоил премудрости классификации тканей, трикотажа, красителей и тонкости технологии крашения, во всяком случае, в объёме, достаточном для выпуска качественной продукции, организации труда работников цеха, мне подчиненных.
И тут, с вашего позволения, вставная притча, как и все классические притчи, рожденная сочетанием жизненных обстоятельств. Так повелось, что при закреплении рабочих мест возле красильных барок, у одного из рабочих оказывалось более материально выгодное место, и работница на другой барке пожаловалась мне на такую несправедливость. И я заявил рабочему, что по согласованию с начальством эту практику ликвидирую. На что он возразил, что такого не будет. Видимо я рассчитывал на то, что начальство поддержит моё предложение, а он – что не станет из-за такой ерунды нарушать давнюю традицию. Разошлись на взаимном: что ж, через неделю посмотрим – кто победит…
Но опять же в один прекрасный день, через месяц, и снова после ночной смены начальница цеха, кстати, со средним техническим образованием, наскоро собрала работающих и предложила им высказать претензии ко мне; но все молчали, и тогда она объявила, что завершился законный месячный испытательный срок, который я не выдержал – без объяснений – почему, и меня уволили. Тогда я решил объясниться с директором фабрики, и он стал что-то мямлить, что хоть я инженер-химик, но не инженер-красильщик, хотя таковых вообще-то ни один институт не выпускал. История эта имела двойное продолжение. Позже я узнал, что тот рабочий, с которым я поспорил, буквально в те же дни придя домой повздорил с пасынком, и последний ударом топора нанёс ему смертельный удар. Воистину, как повторял мой дедушка, человек предполагает, а Бог располагает.
А у нас в доме по-прежнему любила собираться разная публика – и у каждого был свой интерес, сразу скажу, не знаю у кого тогда связанный с КГБ. В числе завсегдатаев был и Юра Анищук, недоучившийся студент, кажется, строительного института. Узнав о том, что со мной произошло, он отправился на эту фабрику, и его тотчас взяли на моё место. Нет, вообще-то он был парень неглупый и умеющий делать карьеру – после обретения Украиной независимости был даже министром – точное название этого министерства менялось – вроде архитектуры и жилищного хозяйства. Не будем говорить, в каком состоянии жилищное хозяйство Украины теперь, и какова заслуга в этом бывшего моего приятеля.
И снова Нахману пришлось попросить сослуживцев-проектантов – пристроить меня хоть на какое-то предприятие. Шел 1953 год, Сталин уже помер, но "лица еврейской национальности", особенно на Украине, ещё долго жили под знаком пресловутого "Циркуляра Маленкова", начавшего скрытно, но эффективно действовать с 1944 года. И вот направился я на Дарницкий резино-регенератный завод, до которого тогда, когда ещё строился мост Патона, добираться можно было только Броварским автобусом. И охочих дипломированных инженеров-химиков среди киевлян – мотаться на пустынное в ту пору Левобережье было немного.
Однако, при первом знакомстве, взглянув на меня, главный инженер заявил, что вакантных инженерных должностей на комбинате нет – явная неправда, разве что рабочие должности. А я тут же сказал, что согласен на любую работу – визиты в отделы кадров разных заведений, как говорится, "с улицы" быстро пресекались решительными "не надо!". И всё же, видимо учитывая наличие инженерного диплома, главный инженер предложил мне должность бригадира развески – участка подготовки смесей для производства резиновых пластин и подошв для обуви, как говаривали встарь, "на резиновом ходу", впрочем, уже на сравнительной новой "микропорке". И, через некоторое время стал мастером в новом цеху, хотя начальники смен, мои начальники были в лучшем случае со средним техническим образованием, а то и привезенные из Ленинграда рабочие этой специальности – даже не закончившие средней школы.
Здесь пара вставных реплик. На основании множества контактов с самыми разными людьми – по профессиям, званиям, социальному положению, пришёл к твёрдому убеждению, что человек достаточно способный, склонный к обучению вполне может сделаться хорошим руководителем любого ранга, и набраться при этом нужного уровня профессионализма в данной сфере. И – уже личное, нет, не ставлю себя в пример, хотя отчасти мог бы; но без кокетства могу твёрдо сказать, что всю жизнь, о чём писал ранее, мне было чуждо честолюбие, и та или иная работа, задача меня настолько увлекала, что было безразлично – как я угождаю начальству, кроме как добросовестным исполнением порученного.
И – никаких претензий по работе, как и до того; начальник цеха даже порой напоминал окружающим о такой моей странности – я принципиально исключил из лексикона своего ненормативную лексику, хотя мат сыпался со всех сторон, и женщины в этом смысле не уступали мужчинам. И, как выяснилось позже, именно мой участок на моей смене функционировал наиболее продуктивно и обеспечивал выполнение плана, что было в те годы первостепенным. Но было и нечто поважнее. Опять-таки, в один прекрасный день, когда я приехал принять смену, мастер с недоумением объявил, что я уволен. И мне объяснили в чём дело. Оказывается на предыдущей моей смене получилось нечто ужасное, именуемое специалистами как "разнотон". То есть в части выпущенной продукции – пластин, из которых штампуется резиновая подошва, – та сторона, что клеится к обуви, была иного оттенка, чем та сторона, которая соприкасается с землей, и я должен понести за это такую суровую ответственность…
Потенциальному читателю может показаться, что я такое выдумываю, по меньшей мере преувеличиваю – но объясняется всё очень даже просто – после сигнала из КГБ, на который следовало немедленно реагировать и рапортовать об исполнении, второпях начальство не нашло другого, более убедительного предлога. Итак, я в очередной раз безработный, и снова вся надежда на дядю Нахмана. Но и он вдруг оказался безработным. Решал его судьбу в данном случае наверное такой же звонок – не из КГБ, но откуда-то очень "сверху". Нужно было немедленно и срочно трудоустроить причём на хорошую должность и зарплату и не на завод выпускника того института, откуда меня исключили. В отделе кадров проектного института, где после войны успешно работал дядя Нахман, зашевелились, начали перебирать анкеты, и обнаружили то, о чём я писал выше – Нахман до войны не успел защитить диплом и получить удостоверяющую высшее образование "корочку". Всё, "не соответствует" – и вся предыдущая трудовая биография – по боку…
Сменилось, возможно, по таким же основаниям, начальство этого проектного института, и один из сотрудников перешел в набирающий силу вновь образованный институт "Гипропром", и рекомендовал как специалиста на должность главного инженера проекта Нахмана, а заодно и меня – правда, не как его племянника, но – как инженера. В этом проектном институте я проработал восемь лет, вскоре после зачисления в штат – руководителем группы технологического отдела. Не стану преувеличивать свои заслуги в организации работы группы молодых в основном женщин, чье инженерное образование совсем не совпадало с технологией проектируемых объектов; тем не менее, довольно сложные предприятия химической, легкой промышленности по нашим проектам строились и выпускали продукцию, и, насколько знаю, доныне успешно функционируют, пусть не все, как и очень многие на Украине после 90-х годов и повальной "приватизации".
Поскольку факты моей биографии в данной работе приводятся преимущественно для прояснения вмешательства в неё КГБ, и закономерен вопрос: а в эти годы – 1954-1962-ой – что я могу сказать по этому поводу? Полагаю, что после активно-репрессивного предназначения в послесталинскую эпоху КГБ приноравливалось к новым условиям своего существовования. Доктрина "враждебного окружения", порождающая, в частности, шпиономанию, пока действовала безотказно. Шпионы собственной персоной или через своих тайных агентов, разгильдяев, болтунов повсюду норовили выведать интересующие их сведенья о вещах, зачастую не имеющих никакого отношения к оборонной промышленности, безопасности государства, таких, которые не могли не знать более или менее причастные к той или иной сфере деятельности граждане, не подозревающие, что и это может составлять государственную тайну.
Спецотделы на "режимных" предприятиях и учреждениях, засекреченная документация, подробные анкеты в отделах кадров ("есть ли родственники за границей?") и тому подобное обеспечивало видимость необходимости и важности этой стороны функционирования КГБ. И оппозиция советской власти в те годы была, можно сказать, призрачной, ни в коей мере не угрожающей существованию режима, воспитавшего за предыдущие годы в общем-то поколения покорных и достаточно пугливых. Дружно голосовали "за" даже при тайном голосовании, и нельзя было представить, что кто-либо открыто начнет проявлять какое-либо несогласие с "политикой партии и правительства".
Несколько храбрецов на Красной площади, демонстрирующие протест против вторжения Советской Армии в Чехословакию, были немедленно жестоко покараны, чтобы никому не повадно было даже помышлять о подобном. И уже позже, в 70-х годах, когда я просто заявил дежурному агитатору, что отказываюсь участвовать в выборах – уже не помню – в Верховный ли совет СССР, УССР или ещё куда, последовала оперативная реакция. Иные граждане прибегали к такому демаршу дабы высказать свои претензии к местным властям и добиться перед выборами удовлетворения обычно вполне разрешимых бытовых проблем. И когда делегированная "тройка" пришла ко мне домой, то была крайне удивлена моим заявлением, что я ничего не прошу, и что участие в выборах по Конституции – моё право, а не обязанность. Между прочим, всё выспрашивали у меня, а затем и у моих соседей по коммунальной квартире – где я работаю, и не исключаю, что моё досье в КГБ пополнилось и этим эпизодом.
Полагаю, не только это содержит папка с моей фамилией на обложке с каким-то тысячным порядковым номером. Насколько мне известно доподлинно, КГБ весьма заботилось о создании всеохватывающей сети осведомителей; полушутя говорили, что в учреждениях, где большинство составляла техническая, тем более гуманитарно-творческая интеллигенция, в этом качестве должен быть представлен каждый, если не пятый, то по крайней мере, десятый сотрудник. Под их прицелом особенно должны были находиться категории "неблагонадёжных" – скажем, бывших на оккупированных территориях, "лица еврейской национальности", родственники в своё время репрессированных, а также рассказчики и любители анекдотов, возможно и "политических"", слушатели зарубежных радиостанций…
Вероятно, в каждом учреждении кто-либо из начальства (директор, парторг, начальник спецчасти, отдела кадров) бывал проинформирован относительно неблагонадёжных, неустойчивых – с тем, чтобы был настороже и не особенно доверял таковым, как исполнителям важных заданий, тем более, как руководителям. Не могу категорически утверждать, что в годы работы в этом проектном институте именно такое давление со стороны КГБ распространялось и на меня, хотя ряд непонятных, ничем не оправданных акций со стороны начальства вроде бы достаточно внятно об этом свидетельствовали. Но расстался я с этим проектным институтом по собственной инициативе, главным образом потому, что изменился профиль и направление проектных работ, когда то, чем занималась возглавляемая мной группа, исключалось из планов. Кроме того, мне представлялось, что, скажем, преподавательская работа, которой я уже частично занимался, позволит мне высвободить больше свободного времени для литературной деятельности. И ещё один штришок – начальству института не нравилось, когда люди увольнялись, особенно добросовестно проработавший не один год, и таким предлагалось – повышениие в должности, зарплаты побольше, иные амплуа. Меня же уволили сходу, без разговоров.
И в последующие несколько лет преподавания в индустриальном техникуме, когда я по существу закладывал основы преподавания на новом факультете, выпускающем специалистов по переработке пластмасс (несколько крупных заводов уже выдавали продукцию – построенных по нашим проектам), – год от года делалось всё возможное, чтобы от меня в конечном счёте избавиться, хотя ни разу не предъявлялись какие-либо претензии, разве что неформальное общение со мной студентов (главным образом юношей) – конечно, лишь в интеллектуальном общении, хотя уже после расставания с этим учебным заведением в 1964 году – моей будущей женой – а у нас уже внук подрастает – стала студентка этого техникума, и в свое оправдание – не я воспользовался своим авторитетным положением, что справедливо осуждается, но инициатива в буквальном смысле исходила от неё, и к тому времени я уже был в разводе со своей первой женой, у которой, живущей в США, уже три внука, и которая недавно в очередной раз с мужем гостила у меня.
Страшным годом для меня был 1968-ой, начало года, когда в течение двух месяцев скончались самые родные для меня – мама, тётя Соня и дядя Нахман. По квартирным и другим делам пришлось столкнуться тогда и позже с советской бюрократией, судами, чиновниками разных уровней. Абсолютное пренебрежение правами и достоинством человека рядового, обычного гражданина, от которого не жди поощрений и риск скандала от действий настырного жалобщика невелик; безнаказанность, хамство – чтобы знал своё место, впрочем, в новых обстоятельствах с трудом сдерживаемое; бесцеремонность в решении проблем, не касающихся чиновника непосредственно и тому подобное – наряду с келейным обсуждением и разрешением своего – как это роднит единым стилем и традиционные советские спецслужбы, и партийно-бюрократический аппарат; и, главное, если сегодня в этом плане что-то изменилось на Украине, то только к худшему, ещё в более циничных вариантах.
С конца 60-х годов началась моя журналистская деятельность, и как сценариста на "Киевнаучфильме". Жанр публикаций в ряде журналов и газет, радиопередач – в основном научно-популярный – о проблемах и достижениях науки и техники, интересные для читателя аспекты обыденного, сухо изложенного в учебниках. По заданиям редакций газеты "Правда Украины" и "Техника – молодёжи", где числился внештатным корреспондентом, готовил статьи об отдельных предприятиях, отраслях народного хозяйства, ведущих научных учреждениях. Следует отметить, что значительная часть моих статей, фантастических рассказов печаталась в Москве, и возможно до столицы СССР не доходили сигналы от украинского филиала КГБ в отношении меня. Вспоминаю, что когда майор КГБ в беседе со мной объяснил внимание его ведомства к моей персоне тем, что я "работник идеологического фронта", я озадачил его, показав перевод за публикации в "Политиздате" – можно сказать идеологическом штабе КПСС. Должен оговориться – и эта публикация была направлена против суеверий, даже не религии, впрочем, остаюсь атеистом, но в угоду "политике партии" никогда не кривил душой, и если цитировал Ленина, Маркса, Энгельса, то, как говорят, по делу.
А вот с киевским "Політвидавом" произошла заминка. Рукопись книги сформировалась из статей, опубликованных в журналах "Наука и религия", "Людина і світ", "Атеистических чтениях" Политиздата – на основе мифов и легенд народов мира – об огне и воде, деревьях и животных, амулетах и талисманах. Наверное её антирелигиозная направленность была в том, что, как я и теперь убежден, – верования, что сродни суевериям; строго регламентированная обрядность – для вроде бы верующих, зачастую затмевают гуманистическую, историко-этническую и, если угодно, эстетическую сущность мировых религий, отбрасывая религиозное сознание к языческим представлениям о миропорядке. Рукопись была принята, со мной заключен договор, редактор книги говорила, что редкая книга, выходящая в их издательстве была бы так интересна для читателя, прошла стадия вёрстки, и вдруг – приказ по комитету по печати – только об этой книге – не выпускать ни в коем случае.
Как и в случае моих увольнений, причины этого излагались весьма туманно, и когда я пошёл объясняться к руководителю комитета по печати – в чём дело? – он объяснил просто: такую книгу следовало печатать в другом издательстве, не в "Політвидаве". Однако в другом издательстве – "Техника" в это время была рукопись другой моей книги – о костюме, и так же был заключен договор, и в редакции заявляли, что будущая книга им очень нравится, однако после приказа комитета по печати, немедленно прислали рукопись и письмо о том, что договор расторгнут, и рецензия наспех – совершенно бессмысленная.
И ещё один характерный эпизод. Я подавал заявление для приёма в союз журналистов, с рекомендациями от журналов, где я активно печатался, украинского радио. На заседании областной комиссии по приёму одного за другим принимали авторов довольно скромных по количеству и качеству статеек, но когда дошло до меня – отказали под предлогом, что я не работал в штате редакции. Так сказать, журналист не тот, кто пишет, а тот, кто редактирует – по такой логике. Я подал аппеляцию в республиканское отделение Союза журналистов СССР, там месяц за месяцем мне отвечали, что "Москва решает", наконец – что моё заявление "затерялось" – как в последующем в СБУ – "не сохранилось" моё досье. Был неясный эпизод и в редакции радиовещания – для детей и юношества, где с успехом прошло более ста моих передач о разных сторонах науки и техники. Снова-таки в один прекрасный день в редакции мне объявили, что отныне авторами передач станут исключительно учёные, – это было враньем; ну что было делать бедным редакторам, когда поступил сигнал "оттуда" и порекомендовали: а вы придумайте что-нибудь, чтоб этого автора больше не было…
С 1969 года я стал внештатным автором сценариев, в основном учебных фильмов на киностудии "Киевнаучфильм". Чуть подробней – как это произошло, и что было в дальнейшем. С 1962 года, когда опубликованный в журнале "Техника-молодежи" мой фантастический рассказ получил премию, и я на ряд лет стал постоянным автором журнала, – установились добрые, дружеские отношения с сотрудниками редакции, почти все, начиная с главного редактора Василия Захарченко неоднократно бывали моими гостями в Киеве, останавливались в нашей квартире, и вообще, что называется, был у меня открытый дом, и кто только не пребывал здесь, на Владимирской 39, с балконом на углу Владимирской и Прорезной, над рестораном "Лейпциг" – до Октябрьской революции "Маркиз", упомянутый в романе Михаила Булгакова "Белая гвардия" – кстати, напомню, мои родные в годы, описываемые в романе, также жили в Киеве…
Один из бывших редакторов журнала Владимир Захаров на протяжении ряда лет приезжал ко мне в гости; пару лет назад его не стало. Как автор сценария для "Киевнаучфильма" он привёл ко мне в дом редактора студии Игоря Сабельникова, тоже, к сожалению, покойного, с которым нас связывала многолетняя дружба, и который как-то порекомендовал меня, как потенциального автора сценариев – журналиста, более или менее компетентного в сфере науки и техники. Несмотря на то, что это была заказная работа – по темам, выбираемым управлениями высшей школы, министерствами, комитетом по профтехобразованию, – как правило, та или иная тема меня заинтересовывала настолько, что я порой получал комплименты от научных консультантов. Конечно, то, что я схватывал, было поверхностным, но достаточным для того, чтобы сообразить – какие зрительные образы могут донести до сознания учащегося или заинтересованного специалиста глубже и понятнее, доходчивее, чем изложенное на страницах учебников или технологических схем.
Мимоходом – во время приёма одного из фильмов для учащихся в системе профтехобразования в числе принимающих находился пожилой вежливый гражданин, фамилия которого – Шелепин – в своё время была знакома всем, и портреты вывешивались на праздники 1-го мая и 7-го ноября по всем городам и весям Советского Союза. Председатель КГБ СССР, "железный Шурик", один из реальных претендентов на пост генерального секретаря ЦК КПСС, – сперва отодвинут в руководство профсоюзами, и наконец – далеко не первый заместитель начальника комитета профтехобразования. "Сик транзит глёрия мунди" – так проходит земная слава – как говорили древние. И не удержусь, чтобы не привести в этой связи небольшой отрывок из Булгаковского другого романа "Мастер и Маргарита". "Я извиняюсь, – заговорил он подозрительно, – вы кто такой будете? Вы – лицо официальное? – Эх, Никанор Иванович! – задушевно воскликнул неизвестный. – Что такое официальное лицо или неофициальное? Всё это зависит от того, с какой точки зрения смотреть на этот предмет, всё это, Никанор Иванович, условно и зыбко. Сегодня я неофициальное лицо, а завтра, глядишь, официальное! А бывает и наоборот, Никанор Иванович. И ещё как бывает!"
Можно вспомнить, как это бывало – с Ягодой, Ежовым, Берией, Семичасным, Шелепиным, или – когда официальное лицо делалось ещё более "официальным" – Андропов, Путин, или чехарду тех же руководителей этого ведомства после 90-х годов – в Москве, а уж в Киеве – разве что по сохранившимся у меня копиям писем с просьбой ознакомить с моим досье и неизменным – "сообщаем, что не сохранилось". Однако если не многое, то кое-что сохранилось в памяти людей моего поколения, так же, как и предыдущих – куда более страшное, хотя и в 70-х годах некоторые диссиденты испытали и допросы, и гонения, и жестокие судебные решения – отправка на годы в сохранившиеся осколки ГУЛАГа. Возможно, появятся, если уже не появились, откровения более или менее высокопоставленных, информированных пенсионеров – прилагательные остались в прошлом и в памяти – о том, что было, и чем занималось КГБ в так называемую эпоху застоя.
Недавно одно время нанятый дежурным в моём доме поведал мне в подробностях историю, в которой он принимал непосредственное участие, как шофёр в КГБ. Было дано оперативное задание: нашу границу пересекали на авто с той стороны – иностранцы, мужчина и женщина, и хотя неизвестно зачем они держали путь в Украину, не исключено, что шпионы. Машина КГБ от самой границы шла за ними по пятам, и особенно подозрительным показалось, когда иностранцы заехали в лес в Черниговской области. Был ли в этом лесу шпионский тайник, или искали по приметам зарытый прадедовский клад, а, скорей всего, собирались, как теперь говорят, "заняться любовью" на лоне природы – так и осталось неизвестным, поскольку явное появление в глуши какой-то машины их спугнуло, и они развернулись в сторону Москвы , где "пасти" подозреваемых поручалось российским кгбешникам, и мой собеседник понятья не имеет, чем кончилась загадочная история.
Важно было проявлять бдительность и действовать, причём так, чтобы начальство удовлетворялось и оценивало – невольная тавтология – действенность разного рода подобных действий. Уже не с чужих слов – в разговоре со мной майор КГБ отметил, когда и сколько была у меня в гостях гражданка ФРГ – помню имя – Зильке – и прозрачно намекнул, что её интерес к русской литературе – прикрытие для иного рода амплуа, ясно какого. Неясно, правда, чем в этом плане я мог быть ей полезен, разве что рассказав нехорошие политические анекдоты. Спрашивается – а при чём здесь государственная безопасность? Насколько опасны для существования державы самиздатовский Мандельштам или даже "Доктор Живаго" Бориса Пастернака? Ничтожная доля населения, всей читающей массы ознакомилась бы с произведениями, в которых о призывах к свержению или активному противостоянию советской власти не было и речи. Более того – не только романы Солженицына , но и "Архипелаг Гулаг", как и явно антисоветские работы Авторханова, – обозначали лишь методы и масштабы злодеяний в первую очередь репрессивных органов, разумеется, под эгидой сталинского режима, но в той или иной степени, по крайней мере старшее поколение, с этим было хорошо знакомо, и не понаслышке, и то, что каждый советский гражданин не был свободен в своих поступках и даже мыслях – не было таким уж откровением.
На мой взгляд и КГБ находило своё место в системе глобального планирования всего, чего угодно – от производства отечественных презервативов в Баковке под Москвой, предприятия, с которым я в своё время имел удовольствие ознакомиться, до государственного переворота в какой-либо африканской стране – с приходом к власти "нашего человека". План был всеохватывающим – и там, где мне доводилось работать, и там, где я бывал по роду журналистско-сценарной обязанности. План выпуска обуви, в том числе неходовой, что залёживалась на складах; и тиражей лауреатов Сталинской, потом государственной премии, что не раскупались и не читались, и учебных фильмов, далеко не всегда доходящих до учащихся: и танков, и снарядов, от которых поныне так трудно избавиться; и количества офицеров в военных училищах; и поголовья крупного рогатого скота – вместо повышения удоев, и так далее.
И выполнение любого плана было священно – не дай Бог недобрать хотя бы процента, и награды ждали любой план перевыполняющих – в срок намеченный свыше, количественный и – на последнем месте – качественно. Было бы удивительно, если бы и КГБ не вписалось в такую систему – с неизменными отчётами и рапортами о выполнении намеченных задач и перевыполнении. Загвоздка состояла для этого ведомства в том, что такой чёткий план, как, скажем, для завода или даже научного учреждения, для КГБ был неприменим. Хорошо было в довоенные времена Николаю Ежову – повсеместно – стольких-то по вашему учреждению выявить как врагов народа, стольких-то по такому-то району отправить в лагеря и такой процент – на тот свет. И попробуй не выполнить – любой ценой, как и всё прочее – в лучшем случае положишь партийный билет…
Впрочем, уроки прошлого не прошли даром, и для показательной отчётности следовало проявлять бдительность, причём это проявление должно было оформляться в нечто конкретное и выставляемое напоказ, с торжеством хирурга, который благодаря рентгену и своей интуиции выявил потенциальную опухоль – не до того, чтобы разбирать – доброкачественная или злокачественная, важно своевременно провести соответствующую операцию. Виртуозно вычислили этих скрытых агентов империализма Синявского и Даниэля; разоблачили коварство писаний Пастернака и Солженицына; на Украине успешно боролись с националистическими акцентами у Ивана Дзюбы, Василя Стуса и даже первого секретаря ЦК КПУ Петра Шелеста – недаром в Москве им были недовольны. А подпольные кружки по изучению иврита – снова оживились эти космополиты-сионисты, мечтающие, как изменники родины, эмигрировать за рубеж…
Зависимые и завербованные КГБ, порой по-всякому поощряемые информаторы, стукачи также должны были как-то оправдывать доверие, и регулярно доносить обо всём услышанном, увиденном, провоцируемом, содержащем – ну, конечно не прямую угрозу для безопасности державы, но всё-таки – нехорошее, несоветское. Как тут не дойти очереди и до меня – то ли вспомнили, что ослабили внимание к моей персоне, не напоминали моему начальству – что за фрукт у них подвизается, то ли окружающие меня стукачи докладывали, что причастен к самиздату, даже изготовлению, и крутятся вокруг подозрительные буржуазные украинские националисты и еврейские – надо ли добавлять – сионисты, но на студию "Киевнаучфильм" поступил сигнал.
Если во всех предыдущих случаях таковое было лишь предположительно, то на этот раз доказательство было, что называется, стопроцентное. В роли секретаря при начальстве, хотя числилась редактором, работала Оксана, дай Бог, она жива – не называю фамилии. Была она в очень приятельских отношениях с москвичкой, "киношницей" Наташей Флаксерман, увы, и её уже несколько лет нет в живых – а в прошлые годы зачастую была нашей гостьей, и мы даже останавливались у неё, приезжая в Москву, и с маленьким сыном Алёшей. Таким образом, Оксана была вхожа в наш дом, и однажды сообщила под секретом, что на студию, начальству был звонок "оттуда", и из услышанных разговоров она ясно поняла, что он касался меня. И последствия этого звонка сказались очень скоро.
Зашёл я к руководителю творческого объединения, с которым сотрудничал уже 18 лет, и по моим сценариям успешно было выпущено свыше полусотни фильмов – учебных, технико-пропагандистских, научно-популярных; и Евгений Степанович Шаботенко сказал мне, что несмотря на то, что моя заявка на сценарий научно-популярного фильма была горячо поддержана рядом членов худсовета, главный редактор Аликов после всего сказал Шаботенко – "не проходит", и вероятно пояснил почему. Между прочим, один из режиссеров рассказал мне, что на совещании режиссеров тот же Аликов задал неожиданный вопрос: у кого из десятков собравшихся, а за время сотрудничества на студии мне доводилось работать тоже с десятками режиссеров – итак – у кого из них имеются претензии к сценаристу Филановскому? Желающих высказать претензии не нашлось, однако найти повод отлучить меня от студии было, видимо, поручено упомянутому руководителю творческого объединения.
И услышав, что моя заявка странно отвергнута, я смиренно сказал, что стану продолжать воплощать заказные темы сценариев. И в ответ услышал, что и этого не будет. Почему? На вас поступила жалоба. От кого? – Директора картины. Вот те на – администраторы отвечают за бытовое обеспечение съемочной группы – гостиницы, билеты на транспорт, контакты с консультантами, местным начальством на объектах съемок. Я удивился: он что – хотя бы читал сценарий? Неважно, зато весьма уважаемый человек. Одним словом – до свиданья, просим больше не беспокоить…
Параллельно от некоторых знакомых, в частности, от Шуры Палатной, о которой речь шла ранее, я узнал что мною интересуется некто из КГБ, именно мной. И однажды утром, когда я возвращался домой, на Владимирскую (жена с сыном уже жила в отдельной кооперативной квартире – въехала туда, когда сыну уже шел четвёртый год и мы жили, так сказать, на два дома, впрочем, как и нынче, почти 30 лет спустя), почему-то с площадки верхнего этажа вынырнул и оказался перед дверью в большую коммунальную квартиру некто и сказал, что он хочет со мной поговорить. Я спокойно пригласил его, и он показал удостоверение на имя майора КГБ Николая Алексеевича Михайлова. Вскоре он позвонил от меня, и я понял, что он отпустил машину, которая вероятно должна была доставить меня в его кабинет, но предпочел беседовать, так сказать, в домашней обстановке.
Я спросил его – чем обязан таким вниманием, показав на книжную полку с юридической литературой, – что противозаконного я совершил? Дело в том, что именно на таких вещах ловили иных подозреваемых или вербуемых – у нас есть сведенья, свидетели, факты – что что-то незаконно продавал, покупал, изготавливал, нарушал. Но майор заверил меня, что такого рода обвинений против меня нет, но поступили сигналы от моих друзей или знакомых, – что я подпал под нехорошее влияние, и поскольку я "работник идеологического фронта", как всякий пишущий, то профилактики ради следует откровенно со мной потолковать.
Как тут не вспомнить фразу, услышанную мной от вероятно будущего сотрудника КГБ: "Мы знаем о вас всё!". И впрямь – информированность майора в этом плане была потрясающая – и из перлюстрации и моих писем друзьям за рубеж, и ответных, и из телефонных моих разговоров, и из докладных, посещающих мой дом, и вероятно из многолетне пополняемого моего досье, из которого можно было черпать сведенья и о давних или дальних друзьях, родственниках, знакомых. В этой связи я как-то заметил майору, что по информированности обо мне ему следовало бы поставить пятёрку, но по психологической подготовке – тройку с минусом. Давление на меня, шантаж неприемлемы, надеюсь, что подобно воде я слегка поддаюсь сжатию, но наступает предел, после которого никакое давление не заставит воду хоть на чуточку уменьшиться в объеме. Возможно, преувеличиваю в отношении себя, но не слишком. Другое дело, когда уступаю искренним просьбам. Ей-богу, если бы майор подошёл ко мне таким образом, то я может быть, и покаялся в том, в чём ничуть не виноват.
А так после почти целого дня бесед на различные темы, я перед расставанием, проявил инициативу – надо какую-нибудь оправдательную бумажку, что недаром старался мой гость, хотя и безрезультатно. Сел за машинку и накатал: сведенья о гражданине Израиля Шахновиче, гражданке ФРГ Зильке (фамилии не помню), гражданах СССР… – давать отказываюсь. Прочёл майор это без восторга, и я дописал – однако беседу с майором считаю полезной – да, это по его подсказке. Назавтра утром – звонок телефонный, и я опередил звонившего – что – начальство недовольно? Ещё бы!
И – назначались встречи: тет а тет – на скамейке у оперного театра, в Мариинском парке, в номере гостиницы "Москва" в присутствии очевидно высшего чина, достаточно эрудированного – тогда возмущался я дикими искажениями фактов в книге "ЦРУ против СССР", наконец, в помещении городского отделения КГБ на улице – тогда Розы Люксембург, ныне Шелковичной – когда майор зачитал мне донесение без упоминания авторства – где говорилось о том, что в моём доме гулял самиздат, велись антисоветские разговоры и вообще был "штаб отъезжающих". Перечислялись посещающие мой дом – кто по фамилии, кто по имени, кто по приметам внешности – "лохматый" или "толстяк". Меня во время чтения взяло зло, я сразу понял чья это записка, и спросил – много ли грамматических ошибок, а придя домой позвонил нашей приятельнице, "поблагодарил", она стала что-то бормотать, предложила объясниться при встрече, но я отверг это предложение, может быть, напрасно в раздражении. И вообще сглупил – ведь при первой встрече майор сказал, что поступили сигналы от моих друзей – во множественном числе, и я тогда, будучи повыдержаннее, попросил бы зачитать и другие обращения в КГБ такого рода.
И впоследствии, когда неоднократно обращался уже в СБУ с просьбой полистать ту самую папку, просто хотел бы для себя – боже упаси как-то мстить тем стукачам или что-то им доказывать, тем более – где теперь каждый из таковых, но – это также часть моей биографии, которая дорога мне воспоминаниями – хорошими и плохими, и отчасти я переношу это на бумагу, потом на свой сайт. И ещё один аспект – в размышлениях о разных категориях миропорядка, об общественном устройстве – привлекает внимание моё и эта составляющая государственной структуры, её значение, роль, трансформация за минувшие десятилетия.
Когда я понял, что майор стремится как-то связать моих друзей, с которыми у меня переписка – в ГДР, Израиле, Варшаве, США – воедино, вроде как некий антисоветский фон – это было совсем не так – то я высказал ему – что возможно таким образом их ведомство занимается ерундой. Нет, он не обиделся, во всяком случае – не подал виду; и лишь единожды вышел из себя, когда я предварительно обдумав это заявление, сказал напрямик, что если мою контактность, словоохотливость, доброжелательство к собеседнику, он возможно принимает за готовность сотрудничать с КГБ, то решительно ошибается. Он спросил: почему? – Есть учреждения, которые не хотят сотрудничать со мной, и у меня наверное есть такое же право. – А вы подумали, что может быть в таком случае с вами и вашей семьей? – вспыхнул майор.
Как я писал выше – это был его психологический просчёт, и моя реакция на это была соответствующей. Не успел я придти домой, как раздался звонок, и возможно, доложив начальству о ситуации, было решено спустить это, как говорится, на тормозах. Майор сказал, что несколько погорячился. И через некоторое время раздался заключительный звонок, майор напомнил, что в Киеве проходит конгресс славистов, и если какие-то зарубежные господа захотят меня завербовать что ли для получения шпионских сведений, то – какова будет моя реакция? Я заверил майора, что немедленно сообщу ему о таком казусе по указанному номеру в КГБ; а про себя подумал – даже если какой-то "славист" и впрямь шпион, то какие такие государственные тайны мог бы я ему открыть?
А спустя некоторое время настала "перестройка", потом "незалежность" и вместо КГБ сделалось СБУ , и – интересно, чем оно могло заняться? Отпала, прежде всего, секретность, которую на протяжении ряда лет курировало КГБ – ни специальных отделов кадров, ни категорий допусков, и даже на самые в прошлом засекреченные "ящики" зазывают зарубежных гостей – авось заинтересуются данным предприятием на предмет приобретения и реконструкции, а может и его нынешней продукцией. Ликвидирован интерес этого ведомства к "буржуазным националистам" и даже к "сионистам". И экономические афёры есть в принципе кому расследовать – в МВД, налоговой инспекции, разным ревизорам и борцам официальным с коррупцией и финансовыми мошенниками – разве что СБУ достаются дела по тем зарвавшимся нуворишам, что перешли дорогу более близким к властям предержащим.
Вместе с тем для руководства державой грех не использовать достаточно квалифицированные определённым образом кадры, комплекс отличных помещений, занимающих целый квартал в центре Киева, ограниченный улицами Владимирской, Паторжинского, Малоподвальной и Ирининской и частично прилегающими зданиями, с соответствующим оборудованием и колоссальным архивом с "миллионом единиц" хранения. И главное – ведомство это, как, в общем-то, достаточно паразитическая структура, в минимальной степени служащая интересам подавляющего большинства населения, и обслуживающая, как личная охрана олигарха, власть и соответствующее материальное положение имущих, рьяно служит своим хозяевам. При этом особое чутье – что от них тем или иным хозяевам требуется.
Это – общие принципы спецслужб, другое дело, насколько они становятся всевластными, как НКВД или гестапо, или выполняют функции разоблачения потенциальных угроз населению данной страны; политической, экономической, экологической безопасности государства, как в значительной степени, скажем, Скотландярд или ЦРУ, ФБР – разделяя свои функции с полицией. Однако, как показали события последнего времени, терроризм с его беспощадной жертвенностью фанатиками и строжайшей конспирацией ставит в тупик вроде бы квалифицированных аналитиков, которые искренне или нарочито заблуждаются, выдавая желаемое, особенно начальством, за действительное.
А на Украине после 90-х годов ХХ века, как я понимаю, - особый случай, - казалось бы, неразрешимые вопросы или проблемы: кому всё-таки служить и – чем заниматься? Наступившие рыночные отношения вносили свои коррективы – заказы на выполнение тех или иных заданий могли поступать, так сказать, и "со стороны" и не обязательно по субординации, и в вариантах – минуя начальство. Не прямо-таки киллерского характера, разве что в исключительных случаях, но информационного разоблачительно-компроматного. Впрочем в роли заказчиков такого рода могли выступать и хозяева. Беда, правда, в том, что особенно в последнее время хозяева и сами толком не знают, чего они хотят, и кто всё-таки по-настоящему хозяин в доме.
А я всё же не теряю надежды, что ещё при жизни сумею дождаться рассекречивания документов КГБ, касающихся, в частности, таких как я, и сумею дополнить эту сторону моей автобиографии сведеньями из того самого многолетнего моего досье.
|
Руководителю пресс-службы СБУ Уважаемая Марина Остапенко! Не впервой обращаюсь в СБУ, в том числе, помнится, и к Вам лично. О сути моих посланий – ниже, а на этот раз повод – чисто формальный. Дело в том, что в обозримом времени я завершаю работу над – в основном биографическим опусом "Спецслужбы в моей судьбе – от НКВД до СБУ. 70 лет", который поначалу будет представлен на моём сайте. Точка отсчёта – 1937 год, когда мне было 10 лет, и я жил в центре Москвы, в доме "Наркоминдела", и происходящее тогда отчасти запомнилось мне и дополнялось рассказами родных и знакомых. А круглая дата – 70 лет спустя – в этом году, и для продолжения документальной традиции моего повествования, достаточно будет наличие этого обращения в СБУ, независимо от того, получу ли я ответ.
А обращался я в СБУ неоднократно, начиная с письма на имя одного из председателей СБУ Владимира Радченко, который, как известно, не случайно произносил мою фамилию ещё будучи оперуполномоченным КГБ. И просил я ознакомить меня с содержимым моего, как говорится, досье – папки, из которой кое-что цитировал сотрудник КГБ при беседе со мной в Киевском городском отделении. И на протяжении ряда лет, начиная с 1947-го, меня по сигналам из КГБ – доказательств достаточно – незаконно увольняли с предприятий, где я работал; вносили в "черные списки" авторов, чьи публикации нежелательны; оборвали сотрудничество, как сценариста, на студии "Киевнаучфильм"…
Регулярно мне отвечали, что эти материалы "не сохранились", хотя – для правдивости надо бы сослаться на соответствующий акт или приказ по ведомству об их уничтожении, или не оставить безответным мой вопрос: каким образом "не сохранились" – отправлены на переработку, как макулатура, или – в печь крематория? Равным образом реагировала СБУ на перечень тех, о которых я несомненно знаю, что они были внештатными информаторами КГБ – и о таковых "никаких данных". Между тем, судя по одному из интервью начальника архива СБУ, в котором он назвал число "единиц хранения" – миллион приблизительно; в том числе, например, все документы, относящиеся к годам "голодомора", репрессий НКВД на Западной Украине в довоенные и послевоенные годы, – реальных мотивов для ликвидации именно таких "оперативных разработок", а также данных о привлеченных стукачах – не было. И показанные на телеэкране архивные хранилища – не в пример иным библиотекам, явно не страдают чрезмерной теснотой. Короче говоря, я всё-таки убежден, что все эти документы сохраняются, и открытие их для доступа простых граждан заблокировано, можно лишь догадываться по каким причинам.
Жаль, если и это моё послание останется безответным, разве что придётся включить его в упомянутый опус. И неужели никакого интереса хотя бы побеседовать со мной, пригласив к Вам, рядом с домом по Владимирской 39, где я прожил не один десяток лет, а лучше, учитывая мой возраст, навестить меня – как в своё время майор Николай Алексеевич Михайлов, которому, правда, не удалось выполнить сверхзадачу – сделать из меня стукача, но не могу сказать, чтобы неоднократные беседы с ним были для меня так уж огорчительны, несмотря на угрозы – скорее любопытны, и отчасти послужили подспорьем для относительно серьёзных размышлений в завершаемом опусе – о сущности, трансформации и деградации спецслужб, в частности, на Украине – от НКВД до СБУ. /Гр. Филановский/ Киев, 30 июня 2007 года |
|
В СЛУЖБУ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ
В который раз обращаюсь к вам с настойчивым пожеланием наконец рассекретить ту папку с документами, относящимися лично и исключительно ко мне, которую я в своё время видел своими глазами, когда майор КГБ Н.А. Михайлов в помещении городского киевского управления КГБ цитировал доносы на меня, поступившие от моих знакомых.
Интерес ко мне и внимание со стороны этого ведомства прослеживается, изложенные обстоятельно на фоне моей биографии и размышлений о государственных структурах, тайной полиции - вообще и в частности - НКВД, КГБ и СБУ, их функциях при разных режимах в определённые исторические периоды. Несколько недель назад я специально посетил приёмную СБУ, где вручил дежурному свою визитку, в которой указан и адрес моего сайта, где, в частности, размещена и эта моя работа. Пока никакой реакции не последовало, жаль, тем более, зафиксировано несколько сот так называемых посетителей моего сайта, знакомых мне и незнакомых, в том числе в США, ФРГ, Израиле; и им предоставляется право выборочной публикации любых материалов, представленных на моём сайте.
Должен добавить, что уже далеко не первый год настойчивость моя в аналогичных обращениях в СБУ - что может быть подтверждено документально - всё более подкрепляется обнародованный информацией, имеющей отношение к тому, чего я от вас добиваюсь. В ряде стран бывшего социалистического лагеря такие документы стали доступны для желающих с ними ознакомиться. Равно и имена внештатных сотрудников, в просторечии - стукачей. Кстати, как-то я и в ваш адрес посылал перечень некоторых, о ком мне достоверно известно, что они подвизались в таком качестве, но и на этот запрос пришёл тот же шаблонный ответ - дескать, сведенья о таковых не сохранились.
А буквально на днях в телесюжете о такого рода рассекречивании документов пресловутой "Штази" в ГДР, последовал комментарий - буквально - что возможно когда-нибудь такое произойдёт и у нас, на Украине. Опять же как-то по телевидению демонстрировались кадры части архива СБУ, в котором, как официально заявлял во всеуслышание начальник этого архива, сохраняется свыше миллиона единиц хранения. Для моего досье, как и для тысяч подобных - места, что ли не хватило? И вообще, как я уже как-то у вас интересовался - можно ли хотя бы ознакомиться с соответствующим приказом по ведомству о ликвидации ненужной документации, как предусматривается в таких случаях, или хотя бы сообщить - каким образом "не сохранилось" такое множество бумаги - отправили ли в сборник макулатуры или в печь крематория?
Время от времени даже из уст нашего президента можно услышать, что рассекречены документы, относящиеся к периоду и 20-х годов, и акции "голодомора", и репрессий конца 30-х годов в СССР, и послевоенной борьбы с "бандеровцами" на Западной Украине, и борьбы с "националистами", антисоветчиками - уже в те годы, когда такое в таком аспекте коснулось и меня. Однако можно предположить, отчего те или иные документы рассекречиваются выборочно - возможно в результате открытого доступа к ним могут всплыть факты, нежелательные для некоторых официальных лиц.
В заключение: оставляю за собой право и этим письмом, и возможно полученным ответом или отсутствием его со своими комментариями - пополнить упомянутую выше работу "От НКВД до СБУ в моей судьбе. 70 лет".
Григорий Филановский Киев, 1 декабря 2007 года |
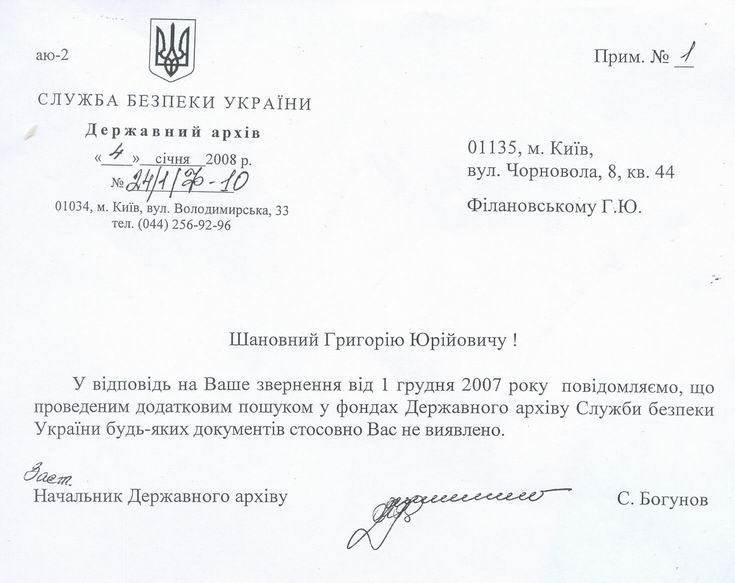
|
В СБУ Не в первый раз обращаюсь с письмом в ваше ведомство
- хотя бы отчасти потому, что не безосновательно считаю наследницей
КГБ УССР, сыгравшей зловещую роль в моей судьбе. Правда, нынешняя
Служба безопасности Украины на мой взгляд, и, наверное, не только
- пародийный вариант бывшего КГБ. Григорий Филановский Киев, август 2008 года |
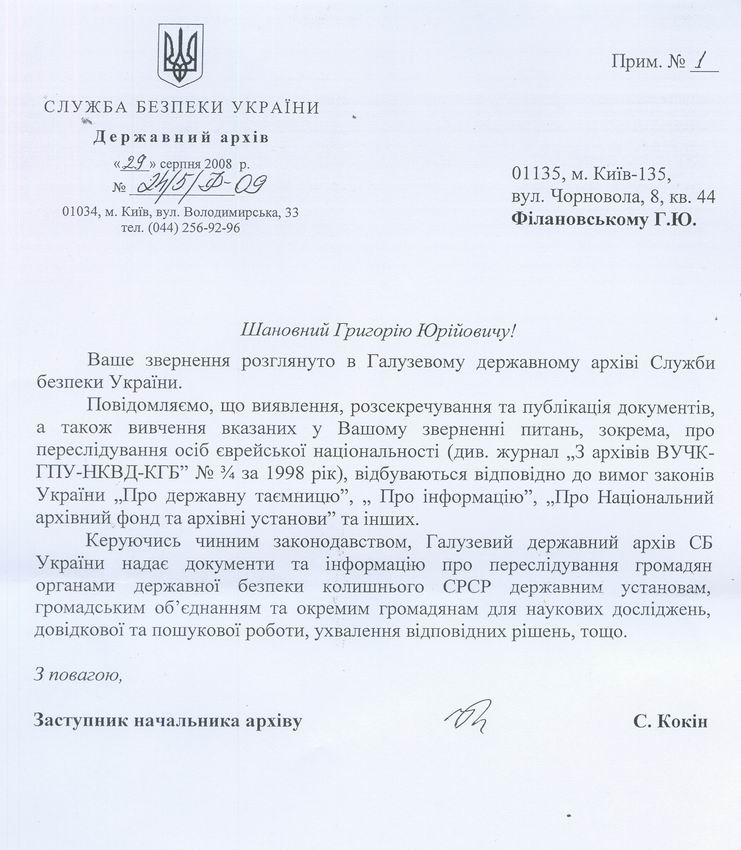
Нелегко представить, что какая-либо еврейская организация на Украине осмелится вслед за мной официально добиваться от СБУ доступа к документам относительно геноцидной по сути дискриминации "лиц еврейской национальности" в УССР, начиная с 1944 и гончая второй половиной 80-х, с последующим обнародованием фамилий наиболее активных руководящих участников этой длительной и суровой акции. Впрочем, всё зависит от нынешних власть имущих, указывающих, какие документы следует срочно рассекретить и выборочно широко опубликовать, а какие так засекретить, что, как говорится, концы в воду.
|
В СЛУЖБУ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ В наступившем, 2009 году, это моё первое письмо
в ваш адрес. Предыдущие письма: в 2001 году - 21 марта, 20 мая,
14 июля; в 2005 году - 22 марта, 30 апреля; в 2006-ом - 17 июня,
4- сентября; в 2007-ом - 30 июня, 1 декабря, в 2008-ом - 30 июля. марта 2009 года Григорий Филановский |
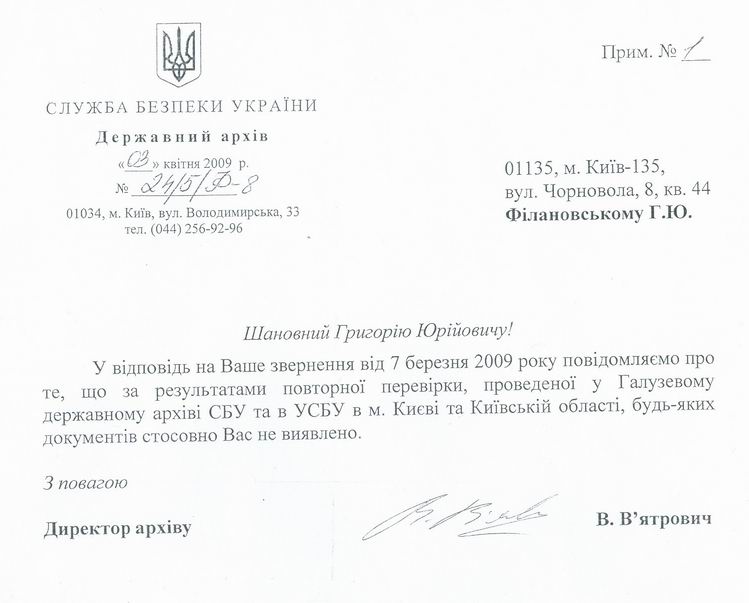
|
В СЛУЖБУ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ Обращаюсь в ваше ведомство не в первый, но, наверное,
в последний раз, чтобы поставить точку в этом разделе своего сайта.
В нём многостраничный материал "От НКВД до СБУ в моей судьбе.
70 лет" и переписка с СБУ в последние годы; тем более, как
мне известно, в разных странах посетители моего сайта с интересом
знакомятся, в частности, с этим разделом. " 20 " июня 2010 года Григорий Филановский |
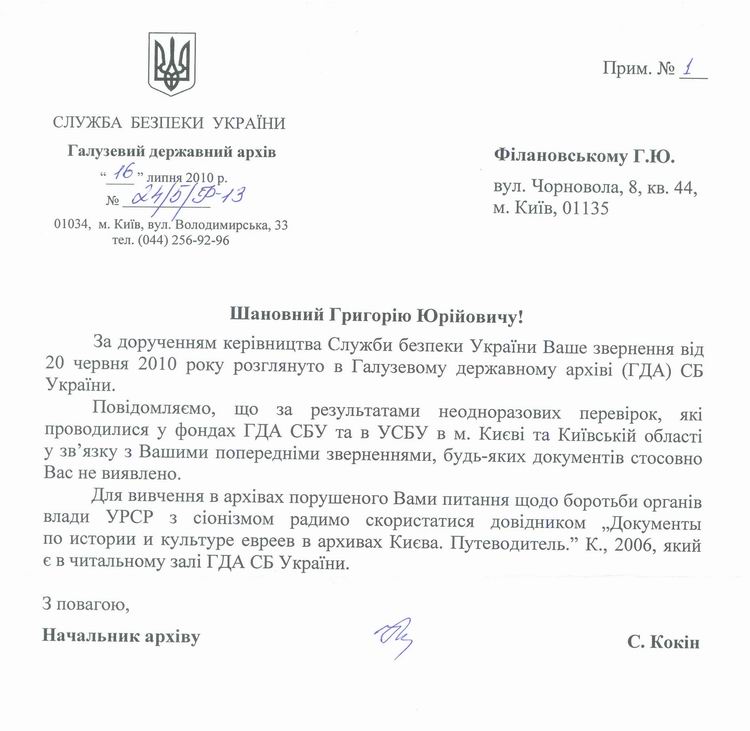
|
Последнее слово на моём сайте всё-таки за мной, и, как и обещал в июньском письме в СБУ, собираюсь поставить точку в приложении к материалу "От НКВД до СБУ в моей судьбе. 70 лет", уже все 73 года. Итак, начну с ответа на моё письмо, отправленное 20 июня, ответ на которое в почтовом ящике оказался лишь 6 августа, так что спустя более месяца, срока, установленного законом для ответа на обращение граждан в официальные организации; я обратился в прокуратуру Киева - в чём дело? Оказывается в адресованном мне письме стоит дата 16 июля, а в штемпеле на конверте дата 4 августа 2010 года.
Очевидно, и в отделе СБУ некому было своевременно отправить корреспонденцию, словно всех сотрудников срочно мобилизовали на борьбу за безопасность Украины. В связи с этим разрешите задать наив-ный вопрос: а какая опасность нам угрожает? Господа из России, и не только, потихоньку скупают разного рода привлекательные объекты на территории державы - всё в рамках законных рыночных отношений, но о вооруженном вторжении не может быть и речи, так что в этом плане безопасности Украины никто не угрожает - ни с севера, ни с юга, ни с запада. Несоразмерный с доходами, многомиллиардный - и в гривнах, и в долларах внешний и внутренний долг государства - это забота правительства, министерства финансов, и в компетенции СБУ не числится.
Безработица, вынуждающая миллионы граждан Украины искать работу за рубежом; неуклонное обнищание, может быть, подавляющего числа семей в ряде регионов - городского и сельского населения; катастрофическое состояние материально и морально устаревшего оборудования очень многих предприятий, коммуникаций в сфере жилищного хозяйства; бесперспективность для рядовых трудящихся улучшения своих жилищных условий, жалкое положение учреждений культуры и науки, - помилуйте - при чём тут национальная безопасность - всем этим регулярно занимаются солидные министерства, опытные руководители в администрации Президента и на местах. Ах да, есть такие вещи, которые с натяжкой можно причислить к факторам, угрожающим национальной безопасности: контрабанду и распространение наркотиков, коррупцию и финансовые махинации, как определяется "в особо крупных размерах". Спрашивается - а куда же смотрят тысячи сотрудников ведом-ств, отделов, специально для этого предназначенных - в МВД, Таможен-ной службе, Налоговой инспекции, КРУ, прокуратура и тому подобные?
Порой в СМИ появляются сообщения, что именно молодцам из СБУ удалось раскрыть, выследить, обезвредить преступную группировку, входящих в которую грозит наказание по самым суровым статьям уго-ловного кодекса. Время от времени, бывая там, где прожил десятилетия, начиная с 30-х годов XX века - в доме на углу Владимирской и Прорезной, в соседнем квартале, целиком населенном - в буквальном и переносном смысле - не одной сотней сотрудников СБУ, вижу этих молодцов - сравнительно молодых, самодовольных, о чём-то нетороп-ливо беседующих - не о девочках ли, но грех прислушиваться - а вдруг ненароком узнаю о какой-либо государственной тайне, правда, с трудом представляю себе такую информацию, которую не мог бы получить, будем считать, иностранный разведчик, особенно снабженный для этой цели неподотчётной валютой.
Ну, а вдруг я ошибаюсь - и эти молодые люди героически разобла-чили банду ужасных злоумышленников, и из природной скромности не носят на груди награды, которыми за это удостоены. Что же, не исключаю и такой маловероятный вариант. Почему-то более вероятным представляется мне вариант, подобный тем, что мы, как говорится, уже проходили, когда СБУ именовалось КГБ. Вызывает такого сообразительного молодого человека начальство, и, догадываясь, о чём может пойти речь, славный юноша интересуется "на кого?" - понятно, имея в виду компромат. Начальство слегка осаживает: "Не торопись. Есть такой - Филановский, запомнил или записываешь? Поступил сигнал: разошёлся в оппозиционной прессе. Угомонить бы... Нет, нет, хватит с нас Гонгадзе. Прощупай и смекни, как бы это..." И бравый малый листает моё безусловно сохранившееся досье, и справляется - живы ли, никуда не девались ли из Украины, поддерживают ли со мной какую-либо связь те, что - и это содержится в том же досье и не только - да, те, что писали на меня - докладные или грубо говоря доносы. Нет, слишком много, как говорили древние, воды утекло. Но парень, который на таких делах, что называется, собаку съел, не унывает: ничего, как-нибудь достанем...
Теперь вернёмся к моему последнему письму в СБУ и ответу на него. Чем я завершил письмо: "В заключение - из памятки бюрократа советского времени: "если в обращении в ваше ведомство задаётся несколько вопросов, достаточно отвечать на один из них, самый лёгкий, и отвечать односложно". Видимо, господин Кокин такую "памятку" снова взял на вооружение, и, чтобы не быть голословным, достаточно сравнить вопросы в моём письме и отвлеченные ответы на них. Тут позволю себе то, что в своих писаниях называю "лирическим отступлением". Мы знаем причины, по которым "не сохранились": Александрийская библиотека - часть сгорела во время осады Александрии Юлием Цезарем в I веке до нашей эры, другая часть уничтожена христианскими фанатиками; и отчего - от рук других фанатиков "не сохранилась" значительная часть материальной и духовной культуры народов доколумбовой Америки; примеров такого рода достаточно в истории человечества.
И как досадно, что сохранились лишь некоторые отрывки из глав "Онегина" после девятой; из второго тома "Мёртвых душ" Гоголя; и как хорошо, что сохранились рукописи Франца Кафки, которые вопреки завещанному не сжег друг писателя. Но, если ограничиться лишь тем, что сохраняется в письменной форме - обобщенно - от древнеегипетских иероглифов на камне до заключенного ныне в компьютерной или "дисковой" памяти, то здесь хозяйничает время, что рано или поздно отсеивает преходящее и оставляет следующим поколениям только то, что представляет собой подлинную художественную ценность или материал для осмысления реалий минувших времен, эпох; проясняет что-либо в жизни, в судьбах замечательных личностей. Общепризнанно значение великой русской литературы XIX века, её влияния на писателей всех континентов и XX века. Полагаю, что не менее превосходна русская литература XX века, если без предвзятости взять то, что в советское время было под запретом - эмигрантская, антисоветская - за ярлыками дело не стояло, и без высокомерного и, думаю, невежественного - ну что там сочиняли и издавали советские писатели.
Если в XXI веке останутся, чуть было не написал "сохранятся" немногочисленные, но настоящие, очарованные, вдумчивые читатели - Гомера, Свифта, Гейне, Пушкина, Льва Толстого, Мериме, Лескова, Чехова - имена первыми пришедшие в голову, то и шедевры русской литературы XX века - воздержусь от имен, захватят разум и душу. И неизбежно совсем немало из напечатанного в СССР на русском и других языках народов Советского Союза вытащит на свет из небытия для иллюстрации чего-то какой-нибудь дотошный литературовед. В руках у меня - справочник - члены Союза советских писателей, изданный в 70-х годах - несколько тысяч фамилий, с несколькими десятками из них я был знаком. И что, перейдя рубеж XXI века, "сохранилось" от всего опубликованного этими тысячами?
Пример, как присказка к продолжению рассуждений о том, что сохраняется и что не сохраняется в СБУ. Был такой плодовитый, комсомольский, начиная с 20-х годов поэт Александр Безыменский, о котором Маяковский отозвался в стихах презрительно: "Ну а что вот Безыменский? Так, ничего - морковный кофе", в те годы суррогат кофе настоящего. Канули в лету его поэмы, пьесы, и авторское словосочетание "Молодая гвардия" - в отрыве от сочинителя. Зато одно его произведение, ещё 30-х годов, живёт доныне в разных вариациях. Это перевод популярной английской песенки о "прекрасной маркизе". Нет, в отличие от той разворачивающей в шутливой песенке истории, ничего страшного не было, "за исключеньем пустяка" - сгорела конюшня, а в ней любимая кобыла маркизы, - в моём случае - та папка - моё досье, которое я видел своими глазами, и, должно быть, сотни аналогичных папок с досье на неблагонадёжных при советской власти - на Украине - не так, как в странах, обретших независимость после распада СССР и советского блока в Восточной Европе - почему-то "погорели" "не сохранились".
Взволнованная маркиза из песенки спрашивает: "как это всё произошло?". И я интересуюсь - см. моё письмо - по какому приказу, когда и каким образом "это всё произошло". Помните частенько ци-тируемое из "Жизни Клима Самгина" Горького - " а был ли мальчик?", который утонул - так вот, оказывается, "не сохранилось", потому что ничего подобного и не было. Так же, как и как-то запрашиваемые мной у СБУ данные о людях, наверняка внештатно в амплуа доносителей по-народному стукачей, сотрудничающих с КГБ.
Ещё интересней ответ на мой вопрос в письме - о документах, относящихся к деятельности специального отдела КГБ - филиала на Ук-раине - по борьбе с сионизмом. Господин С. Кокин советует "скористатися довідником "Документы по истории и культуре евреев в архивах Киева. Путеводитель". Особенно радует свойственная изданиям СБУ в последние годы детальная документальность. Такая же, как, скажем, о "голодоморе" в начале 30-х годов прошлого века - приказы об изъятии продовольствия, репрессивных мерах по отношению к сопротивляющимся - с датами, подписями, фамилиями организаторов таких акций, действиях, направленных против "кулаков и подкулачников" - хорошо, что все эти документы тщательно сохранялись в архиве. Так же, как и не менее подробные и персонифицированные о злодеяниях НКВД на землях Западной Украины в довоенные и послевоенные годы.
В указанном господином Кокиным "Путеводителе" сведенья о том, как был организован при КГБ Украины отдел по борьбе с сионизмом (номер, дата, текст этого приказа), кто возглавил этот отдел, перечень сотрудников, анализ их работы помесячно или поквартально, фамилии причастных к "сионизму", их связи с окружающими или зарубежные, фамилии тех, кто помогает таковых разоблачить - всё это - нетрудно догадаться заключительно слово в этой фразе - отсутствует в "Путеводителе" для внешнего употребления.
Но - от частного - к общему, выводящего за рамки моего личного - ну, не смогу я полистать мое досье единственно для того, чтобы припомнилось то, что было в те далёкие годы, и затерялось в памяти. Благо в нашем семейном архиве сохраняются документы, можно сказать, уникальные. К примеру, что мой отец был участником не только Оте-чественной войны - и его боевые награды свидетельствуют об этом, но и Гражданской войны - был мобилизован совсем юным. Или - свидетельство моей мамы об окончании Киевской гимназии в 1919 году. Сохраняются фотографии, и дореволюционные моих родных, и мои семейные, наших детей, друзей. И сотни моих публикаций в периодике 60-х-80-х годов. Бережно храню и вещи, не обязательно антикварные, но прошедших многих лет. В XX веке повсеместно в мире начали осознавать, какую историческую ценность представляют собой и семейные архивы, не говоря уже о государственных. Знаю, что в некоторых официальных архивах находятся материалы не подлежащие рассекречиванию, как говорится, до поры, до времени. Бывают случаи, когда и впрямь уничтожаются документы, которые в какой-то момент могут бросить тень на иных, пришедших к власти. Однако следует помнить библейское: нет ничего тайного, что не стало бы явным... |